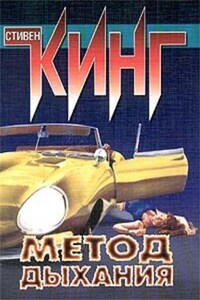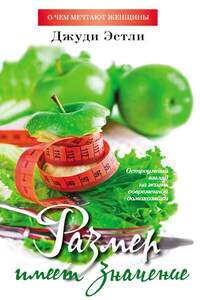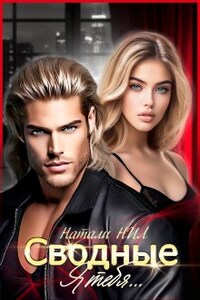Помню разносящиеся по операционному залу крики, ровный шум компьютеров и звон телефонов. Помню пронизывающие комнату лучи солнечного света. Все-все помню. Помню фотографию – ты с Люкой – в серебряной рамке на моем столе. Потом, с содроганием, вспоминаю тот миг, когда солнечный луч задрожал на кромке рамки и я вдруг понял, что оставил Люку в машине. Страх, пробежав по рукам, вонзился в грудь.
Листки с заметками взметнулись мне вслед – я бросился к двери и дальше, к лифтам, вжал кнопку так, что побелел палец. Одна кабина пошла наверх, следом другая. Я ринулся к лестнице, скатился, пролетая по пять-семь ступенек, вниз, рванул к двери и выскочил наружу. Ослепленный ярким майским солнцем, бросил взгляд на четко вычерченный в небе шпиль церкви, на парковочную площадку позади нее.
Усталые туристы за столиками у «Patisserie Valerie» неспешно попивали латте, расправляясь с громадными круассанами, с которых ветер сдувал чешуйки. Этот ветер всколыхнул во мне надежду. Прохладный, он пролетел над Темзой, по Грейсчерч-стрит, по Бишопсгейт, тронул волоски у меня на руках и взметнул навесы у растянувшихся вдоль Брашфилд-стрит магазинчиков. Подгоняемый ужасом, я несся по улице, когда путь преградил белый фургон «эскорт». Я увернулся, получил в спину проклятье, поскользнулся на кожаных подошвах и, разрезав наискось Коммершл-стрит, нырнул в тень церкви.
Словно рука из озера, она поднималась из мрачной скученности окружающих строений. На работе я частенько смотрел на нее. Стоя у окна, с зажатым между плечом и ухом телефоном, я глядел на шпиль, забывался и терял ход мыслей. Взлетающий из мирского окружения, он воплощал в себе чистоту и надежду. С усилием я вернулся в настоящее. Припекало. Я рванул дверь и окунулся в сырой, влажный воздух.
Холодные, скользкие перила под ладонями. Словно пьяного, меня мотало из стороны в сторону. За одним поворотом возникал другой, двери открывались куда угодно, только не на крышу, и везде, на каждом этаже, – темные коробки машин. Машин, припарковавшихся в то утро раньше меня; машин, оказавшихся здесь вопреки статистически невозможной комбинации красных сигналов светофоров, заглохших автобусов и запруженных перекрестков. Вылетев на яркий свет, я увидел «поло» на другой стороне серой бетонированной крыши. Увидел детское сиденье и светлую головку над ним.
Он не шевелился. В чуть приоткрытом окне отражалось небо. Ни звука. Теплая металлическая ручка… неуклюжие пальцы… ключи… Дверца открылась, и в лицо ударил спертый дух. Я дернул пояс безопасности, справился кое-как с защелкой, сбросил черные ремни.
Сейчас, когда я пытаюсь восстановить всю картину, перед глазами кружит водоворот разрозненных образов. Вырвавшийся из крохотных легких выдох, вскинувшаяся в дрожащем порыве маленькая грудь – и потом ничего. Лицо совершенно спокойное, ничуть не сердитое. Губки с хлопьями желтовато-белой пены неодобрительно поджаты. На висках, под бледной натянутой кожей, припущенной светлыми волосами, прожилки вен. Я поднял его – обмякшее, податливое тельце. Стащил носки – сам не знаю зачем – и увидел ножки, темные от лопнувших сосудов. С прилипшей к влажной спине футболки капал пот. Я прижал его к груди, полил водой из недельной давности бутылки «эвиана», валявшейся на полу среди драных дорожных карт, и, целуя и обмахивая ладонью горячее личико, сел за руль.
Держа его одной рукой, я мчался, не глядя, на красный свет, по бесконечным съездам, тротуарам в направлении Ватерлоо и, лишь подъехав к больнице, прижал ухо к груди, позволив себе секундную остановку, и услышал, как мне показалось, глухой, неуверенный стук. Я вбежал в отделение экстренной помощи, крича