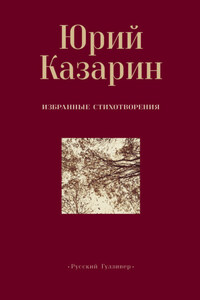Она летела. По ветру. Шляпа. Сначала я снял её (аккуратно и вверх, строго вертикально, как крышку с кипящей кастрюли) с головы моего спутника, а потом подбросил со всей матушки, вернее – забросил в ветер, – и она полетела. Бреющий полёт шляпы. Так себе шляпа: почти котелок, даже не старомодный, а уже невозможный. Городской ветер опустил её на дорогу и покатил дальше, на север, по ул. Мамина-Сибиряка, – покатил, как колесо, чёрно-серую, навстречу потоку машин. И – оп: тяжёлая серебристая «Волга» (не «Мерседес» и не «Лексус»), а наша родная «Волга» прихлопнула её передним левым колесом – и шляпы не стало. В магазине спорттоваров я купил моему спутнику бейсболку. И она ему очень понравилась. Хотя и шляпу было жаль, папину, древнюю, шик промзоны, выходной аксессуар, который надевали на плешивую башку, когда отправлялись в магазин, в аптеку, в кинотеатр или в Управление шахты.
В каждой деревне, в каждом селе, в посёлке, в небольшом городке (о мегаполисах молчу) есть свой достопримечательный дурак. Дурачок. Убогий. Юродивый и т. п. Мой товарищ как раз был человеком такого склада и сорта: мой сосед по Каменке. Низкорослый мужичок (ростом с сидячую собаку, – как говаривает мама Наташи), с близко друг к другу посаженными глазами, почти птичьими («Скрипцы прилетели», – говорит он обычно вместо «скворцы»; так оно и есть: скворцы вечерами сидят с набитыми животиками на деревенских алюминиевых, с узлами, проводах – и скрипят). Молчаливый. Почти не здоровается (ни с кем): зыркнет жёлтыми сталинскими глазками – всё, считай поздоровался. У него была сестра. По вечерам они ставили на старенький проигрыватель пластинки (винил) и орали – подпевали – перепевали «Валенки-валенки» и «Я под горку шла…». Сестра его в прошлом году замёрзла, пьяная, насмерть в сорока шагах от моих ворот: села в сугробик и уснула. Навсегда. Маленькая, полненькая пушистая такая тётка. Я посадил на том месте, где она в моей памяти спит до сих пор, вербу – тоже маленькую, хорошенькую, пушистенькую.
Деревенских дурачков обычно зовут Михаилами, а дурочек – Верами, Надями и Любами. Могу назвать с дюжину деревень, в которых наблюдалась такая прецедентная антропонимия. Обычно дурачок не знает и не любит никого (хотя, конечно, это не так: чаще он делает вид, что никого и ничего не помнит, – так проще), но зато деревенский юродивый знает и любит землю. У него всё растёт. И ещё как! И деревья плодоносные, и кусты, и зелень, и капуста, и картошка. И в рыбалке он удачлив. И грибы к нему в корзинку сами прыгают. Но… Есть в этом природном его родстве с землёй и в везении – любом: погодном, пахотном, хозяйственном, – что-то трагическое. Одиночество? Думаю, не только оно. Наблюдения мои за такими людьми (а они почему-то не сторонятся меня и часто тянутся ко мне – поговорить, помолчать, посмотреть в глаза) показали, что они невероятно остро чувствуют время. Помните юродивого из «Бориса Годунова»? А вот «Юродивый в 1918 году» Арсения Тарковского:
За квёлую душу и мёртвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольничьем хрустком снегу:
– Ай, маменька,
тятенька,
бабенька,
гули – агу!
Дай Феде просвирку,
дай сирому Феде керенку,
дай, царь-государь,
импелай Николай,
на иконку!
царица-лисица,
бух-бух,
помалей Алалей,
дай Феде цна-цна,
исцели,
не стрели,
Пантелей!.. <…>
Дальше переписывать не стану. Остановлюсь: там про добрых красноармейцев. (На границе с РФ я бы установил предупреждающие плакаты – для иностранцев и вообще для людей с душой: «ОСТОРОЖНО: РУССКИЙ НАРОД!»). Больной на голову и светлый, чистый душой Федя уже назвал безумное время