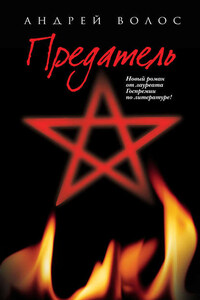Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Александр Сергеевич Пушкин
Предлагаемое вашему вниманию литературно-художественное произведение является первым прозаическим опытом нашего автора. И хотя новичком на поприще отечественной словесности Т. Ю. Кибирова никак не назовешь (недавно, между прочим, было отмечено двадцатилетие плодотворной творческой деятельности – и это считая с первой публикации, а с первого написанного стишка так вообще сорокалетие с хвостиком!), и хотя сочинитель этот совсем не робкого (в литературном, конечно, смысле) десятка и, подобно каверинским капитанам и тениссоновскому Улиссу, давно уже начертал на своем щите «То strive, to seek, to find, and not to yield!»[1], тем не менее, невзирая на все это, я ужасно как трушу и смущаюсь и поэтому начинаю все-таки с естественного и привычного лирического песнопения:
Было счастье короче, чем взмах ресницы…
Или снилось мне то? Или это снится?
Я тебя любила, а ты забыла!
Лизавета, где ты?!
Я взываю во тьму, но ответа нету!
Осыпается наше с тобою лето.
Отошла в поля ты в лучах заката.
Кто же нынче, Лиза,
Твои глазки, коленки, ладошки лижет?
Ты все дальше, Лиза, а смерть все ближе!
Только мнится – разлука с тобой страшнее
Залетейской стужи!
Кто же, Лиза, теперь тебе верно служит?
Дай те Бог, чтоб служил он меня не хуже!
Здесь нам пел жаворонок, а днесь ворона
Мне пророчит гибель!
Были мы богиням подобны, ибо
Мы с тобою бессмертными стать могли бы,
Ведь любовь же, Лизанька, крепче смерти!
А ведь мы любили!
Но иное судьбы – увы – судили!
Расстоянья меж нами, версты, мили!
Так прощай, Лизочек, прости, дружочек,
Поминай как звали
Ту, кого целовала ты, миловала,
И пускала тайно под одеяло,
Для кого запах кожи твоей дороже
Благовоний рая!
Вспомяни же, с другом другим играя,
Наши игры на солнышке у сарая,
В надувном бассейне златые брызги
И блаженства визги! —
вот так, наверное, приблизительно так звучал бы горестный плач безутешной Лады в переводе на человеческий, русский язык.
Но переводить было некому, а Александра Егоровна никаких иных языков не знала (разве что совсем чуть-чуть церковно-славянский), поэтому она слышала только неумолчный и безобразный вой и бессмысленный скулеж. О пронзительности же Ладиных причитаний мы можем судить по тому печальному обстоятельству, что из-за них сильно глуховатая баба Шура уже который час не могла уснуть.
– Господи, да что ж это такое? что ж она не угомонится-то никак?! Это ж с ума же можно сойти! Да замолчи же ты уже, наконец, паразитка! – шептала в темноте несчастная старуха, кляня свое неразумие и не совсем уместно поминая порося из народной мудрости.
Старенькие, еще мамины настольные часы пробили полтретьего. На мертвенно бледных занавесках колыхались смутные тени ветвей. Под завывания Лады все в доме казалось непривычным, чуждым и даже каким-то страшноватым. Да еще бессердечный Барсик, вместо того чтобы, как заведено годами, мурчать на хозяйкином пододеяльнике, забрался то ли от страха, то ли от раздраженной спеси на шифоньер и замер там таинственно и мрачно, мерцая своим единственным глазом – ни дать, ни взять ворон на бюсте Паллады.
– Так тебе и надо, дура старая, вот тебе твоя обновка, вот тебе туфли-лодочки! И утюг в придачу!
Спать и даже просто спокойно лежать Александре Егоровне было невмочь, подушка уже давно была горяча с обеих сторон, а перина еще жарче и неудобнее. Сердце-вещун ныло и нашептывало всякие неприятные глупости и несуразности, с которыми усталая голова не могла уже совладать.
– Да что ж такое за наказание?! Да не бешенная ли она часом?! Царица Небесная, спаси и сохрани!
И тут, словно во исполнение молитвы, истошные Ладины крики внезапно смолкли, и сентябрьская ночь исполнилась блаженной тишиной.