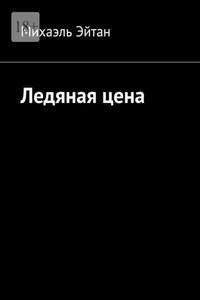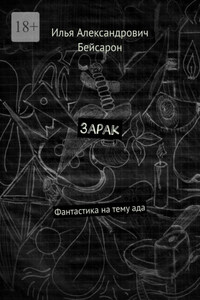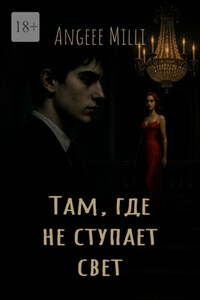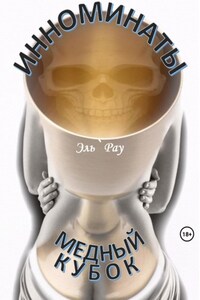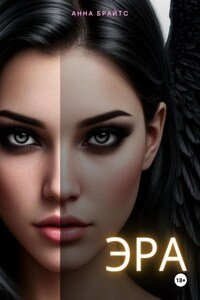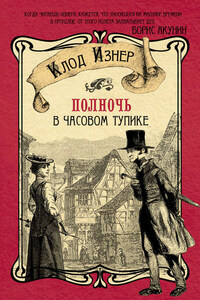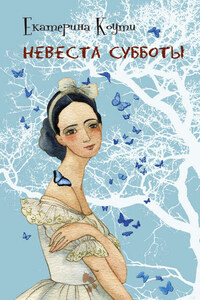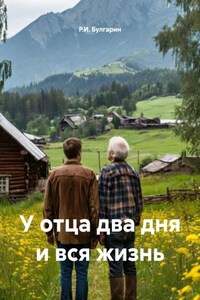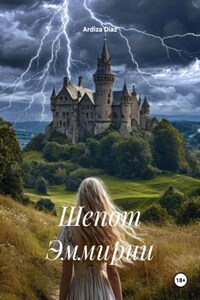Автобус Петрозаводск – Паккоярви сбавил ход, вздохнул уставшими тормозами и остановился у перрона автостанции. Шипованная резина оставила на накатанной ледяной корке, покрывшей асфальт к концу декабря, спутанную вязь следов, белесых, как борода волхва. Водитель открыл двери, и окутанные клубами пара немногочисленные пассажиры один за другим оказались на улице. Павильон автостанции встречал их замерзшими стеклами киоска «1000 мелочей» и табло со светящейся строчкой, состоявшей из одних только двоек и единиц.
Первыми из автобуса выпорхнули две молоденькие студенточки – они досрочно сдали зачеты и вернулись в родной городок, чтобы отметить праздники с семьей и друзьями. Судя по непрерывающейся болтовне, куда больше, чем встреча с близкими, их занимало, успеют ли в недавно открывшийся рядом с почтой пункт выдачи заказов доставить заказанные праздничные платья и в чем вообще идти на новогодние вечеринки.
Следом за девчонками, вперевалку спускаясь по ступеням, появился Николай Иванович Зеленцов – завклубом, библиотекарь и, как утверждали местные жители, последний хранитель традиций. Он возвращался из республиканского министерства культуры, где на заседании начальник департамента объявил сухим, трескучим, как перестук костяшек бухгалтерских счетов, голосом, что бюджет на следующий год будет сокращен на треть. Теперь придется урезать расходы, отменять запланированные мероприятия. Тридцать лет Николай Иванович посвятил возрождению старинных праздников – и теперь всё зависело от цифр в ведомственной таблице.
Особенно больно ему было думать о Паккыр-Йоле, местном торжестве, посвященном символической победе огня надо льдом и проходящем в день после зимнего солнцестояния. Завклубом помнил его тихим, домашним: хор пенсионеров, девчонки из танцевального кружка, чай в эмалированных кружках. Но теперь, когда внутренний туризм стал модным, на праздник приезжают на своих блестящих, как елочные шары, машинах сотни туристов из Москвы, Петербурга и других городов, глазеют и отовариваются на ярмарке, разве можно позволить долгожданному мероприятию исчезнуть, как льдинке в пламени праздничного костра?
Последним из автобуса вышел молодой человек лет тридцати в длинной черной парке, чем-то напоминавшей сутану, из-под которой виднелись узкие штаны несерьезного охристо-ржавого цвета. Нелепая меховая шапка, съехавшая на затылок, открывала мокрую от пота чуть вьющуюся светлую челку, которая под морозным зимним ветерком неприятно холодила кожу. Очки в модной прямоугольной оправе и блестящая серьга однозначно выдавали в нем приезжего, но не туриста. В это время года туристы в Паккоярви не были редкостью, но этот не был похож на охочего до диковин жителя столиц – ни бесполезного фотоаппарата с огромным объективом на шее, ни невпопад напяленных вязаных вещей с национальным орнаментом, купленных втридорога в Петрозаводске.
Спускаясь из автобуса, он бил себя по ногам огромной спортивной сумкой, набитой непонятно чем, и чуть слышно чертыхался. Макс приехал из Петербурга, где зарабатывал, пописывая заказные статейки для чужих блогов и делая посредственные переводы зарубежных новостей.
Еще пару дней назад Макс ничего не знал о Паккоярви. Сокурсник Вадим, ставший популярным тревел-блогером, подкинул ему халтурку. «Съезди, – говорит, – друг мой, в это захолустье, подсними мне фактуру про тамошний фестиваль, запиши пару-тройку интервью с аборигенами, чтобы я потом смог смонтировать какой-нибудь связный и не слишком занудный рассказ, а я тебе отплачу звонкой монетой». Сам он в эти дни собрался на «почти такой же сабантуй», но в Намибии.