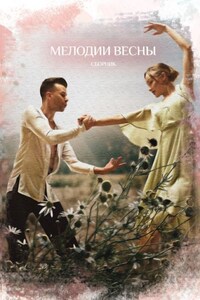Я просыпаюсь… Сквозь полузакрытые веки, еще не в реальности, но уже и не во сне, я вижу, как утренний свет сочится сквозь белесые жалюзи, наполняет собой комнату, и в нем плавают одинокие предметы, как обломки кораблекрушения в океане. Потом из этого тумана постепенно проступают знакомые очертания – в детстве мы с отцом так проявляли фотографии в ванной при красном свете. Кругом тишина и свет, он струится сквозь тишину, и мне хочется про все забыть и вечно плыть в безмолвии, и тогда я вспоминаю только что виденный сон, пока его еще можно успеть вспомнить. Мы с отцом молча идем по мелкой протоке вдоль волжского плеса, мне шестнадцать лет и отец еще молод, в сетке бьется только что пойманная рыба, и рассветное солнце отбрасывает наши длинные тени. Никого нет, только солнце, низкий песчаный берег, в протоке сильное течение, вода струится вокруг моих ног, и мы молча идем с отцом все дальше и дальше, и в эту тишину вдруг врывается мелодия телефонного звонка – я машинально потягиваю руку и беру телефон.
– Андрюша, здравствуй, не разбудила? – Я слышу голос мамы.
– Нет, мама, – говорю я и понимаю, что голос звучит предательски сонно. – Наоборот, мне давно уже пора вставать, хоть и воскресенье.
– Я тебе звоню вот почему… Ты помнишь, что сегодня годовщина со дня смерти папы?
– Помню, – отвечаю. Сейчас опять начнется: почему же ты тогда не приехал, а он всегда так тебя любил. Собираюсь с силами, чтобы делать вид, что слушаю.
– Я так странно себя чувствую, – продолжает мама. – Знаешь, мне недавно снился сон, будто ты маленький и я тебя качаю, убаюкиваю, а на стене висит коврик, красный такой, и на нем черный волк. А в открытом окне два фонаря освещают огромный портрет Сталина на доме напротив. Тут я поняла, что это моя комната, из моего детства, мы тогда жили на Обводном канале и окна выходили на Варшавский вокзал. Мне давно уже не снилось детство… Так странно, вот я и решила тебе позвонить.
Я молча слушаю все это, потом отвечаю:
– Ну хорошо. Ты правильно сделала, что позвонила. Послушай, мам, мне надо будет уехать. Из Москвы и из страны, возможно. Это ненадолго, все успокоится, и я вернусь. Ты только не волнуйся, я буду в порядке и о тебе обязательно позабочусь.
На той стороне молчание, но недолгое.
– Я понимаю, – наконец говорит мама. – Это из-за завода, да?
– Из-за разных обстоятельств. Все будет хорошо, но сейчас мне лучше не быть в Москве.
– Ты только обязательно давай о себе знать, – вздыхает мама, как будто я уезжаю в турпоездку со школой.
– Да, мама, – успокаиваю я. – Конечно. Куда же я денусь. – И заканчиваю разговор.
Я стою во вполне предсказуемой пробке на Тверской, перед выездом на Пушкинскую площадь, только ее длина сегодня оказалась непредсказуемой, поток машин – от самого Охотного Ряда. Странно, учитывая то, что сегодня воскресенье и середина майских праздников. Наверное, пропускают какую-нибудь важную персону. Я ненавижу этих персон, этот город, эту улицу, вначале, во время первых моих приездов, похожую на главный проезд на ярмарке с киосками и назойливо кричащей рекламой, а после реконструкции последних лет напоминающую мемориальное кладбище. Вся Москва стала напоминать теперь мемориальное кладбище – чистое и неживое, быть главным проездом на ярмарке шло Тверской гораздо больше, хоть естественность какая-то была. Убогий город, убогая страна. Я в жизни совершил две ошибки: родился в России и вернулся сюда снова – зачем?! Не будет здесь ничего – никогда и ни у кого не будет, только тюрьма или бедность, а скорее всего, и то и другое вместе – бедность, подыхающая в тюрьме. Народ, который знает только силу и палку, который порождает только страх и ненависть, мне их совершенно не жалко, это быдло само все заслужило, а мне нужно отсюда только валить поскорей.