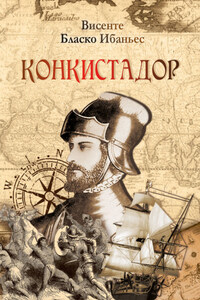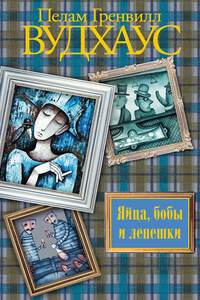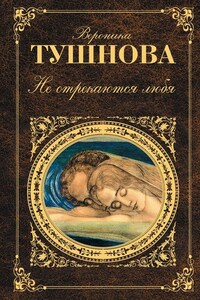Уж приблизительно месяц Луис Агирре жил в Гибралтаре.
Он приехал с намерением отплыть немедленно на океанском пароходе, чтобы занять место консула в Австралии. Это было первое большое путешествие за все время его дипломатической карьеры.
До сих пор он служил в Мадриде, в разных министерских департаментах или в разных консульствах южной Франции, элегантных дачных местечках, где в продолжении половины года жизнь походила на вечный праздник. Вышедший из семьи, все члены которой посвящали себя дипломатической карьере, он имел превосходную протекцию. Родители его умерли, но его поддерживали как родственники, так и престиж имени, которое целое столетие играло роль в государственной жизни. Консул в двадцать девять лет, он отправлялся в путь с иллюзиями студента, который готовится в первый раз увидеть свет, убежденный, что все до сих пор совершенные им путешествия не представляют ничего существенного.
Гибралтар с его смешением языков и рас был для него первым откровением того далекого, разнообразного мира, навстречу которому он отправлялся. На первых порах он был так поражен, что сомневался, является ли этот скалистый уголок, врезывающийся в море и охраняемый иностранным флагом, частью родного полуострова. Но стоило ему только взглянуть с отвесных склонов скалы на большую лазоревую бухту, на розовые горы, на которых светлыми пятнами выделялись дома Ла Линеа, Сан Роке и Альхесирас, сверкая веселой белизной андалузских деревушек, и он убеждался, что все еще находится в Испании.
И однако различие между отдельными группами населения, ютившимися на берегу, похожем на заполненную морской водой подкову, казалось ему огромным. От выступавшего вперед мыса Тарифы до гибралтарских ворот он видел однообразное единство расы. Слышалось веселое щебетанье андалузского говора, виднелись широкие с отвислыми полями сомбреро, платки, облегавшие женские бюсты, и пропитанные маслом прически, украшенные цветами. Напротив – на огромной черно-зеленой горе, кончавшейся английской крепостью, замыкавшей восточную часть бухты, кишела толпа разнородных племен, царило смешение наречий, настоящий карнавал костюмов. Тут были индусы, мусульмане, евреи, англичане, испанские контрабандисты, солдаты в красных мундирах, моряки всех стран. Все они теснились на узком пространстве между укреплениями, подчиненные военной дисциплине., Утром после пушечного выстрела отворялись ворота этой международной овчарни; а вечером под гром орудия они снова запирались.
А рамкой для этой полной беспокойства и движения пестрой картины служила на дальнем горизонте, за чертой моря, цепь возвышенностей, марокканские горы, берег пролива, этого наиболее людного из всех больших морских бульваров, по голубым дорожкам которого то и дело мелькали большие быстрые корабли всех национальностей и всех флагов, черные океанские пароходы, прорезающие волны в поисках гаваней поэтического Востока или направляющиеся через Суэцкий канал в беспредельный, испещренный островами, простор Тихого Океана.
В глазах Агирре Гибралтар был как бы отрывком далекого Востока, ставший ему на пути, азиатская гавань, оторвавшаяся от материка и прибитая волнами к европейскому берегу, как образчик жизни отдаленных стран.
Он остановился в одном из отелей на Королевской улице, идущей вокруг горы; то было как бы сердце города, к которому сверху и снизу притекали, словно тонкие жилы, переулки и переулочки. На заре он просыпался, испуганный утренним выстрелом из новейшего орудия, сухим и жестоким, без гулкого эхо, какое вызывают старые пушки. Дрожали стены, содрогался пол, звенели стекла, качались ставни и несколько мгновений спустя на улице поднимался все более разраставшийся шум спешащей толпы, топот тысячи ног, шепот негромких разговоров вдоль запертых, безмолвных зданий. To были испанские рабочие, приходившие из Ла Линеа на работы в арсенале и крестьяне из Сан Роке и Альхесирас, снабжавшие жителей Гибралтара овощами и плодами.