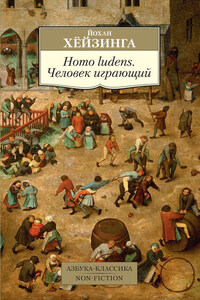«Вы смотрите, но не замечаете».
Шерлок Холмс, «Скандал в Богемии», (1892)[1]
Скорее всего, он меня уже забыл. С тех пор прошел месяц. Можно сказать, вечность.
И этим вечером его наверняка там не было. Просто желая убедиться, я еще раз оглядела дешевый ресторанчик – от пестрой намокшей двери до черной доски «Пирог дня», на которой хозяйка аккуратно написала мелом: «ЭНН ИЗ УСАДЬБЫ „ЗЕЛЕНЫЕ ГРОЗДЬЯ“, с черникой и виноградом „шардонне“ из долины Якима».
Все чисто.
Большую часть мая я не появлялась в этом ресторанчике, а когда проходила мимо его окон, накидывала капюшон, опасаясь, что он будет там маячить, будто, окажись мы снова в одном и том же месте, во вселенной образуется дыра, породит Самый Неловкий Момент Во Всей Современной Истории и это заведеньице – ставшее для меня в городе чем-то вроде рая – забрызгает грязь, которую потом ни в жизнь не отмыть.
Но его там не было, а если он и работал где-то поблизости, то это еще не превращало его в завсегдатая, свято хранившего верность ресторанчику «Лунный свет».
А если бы даже и был, то что? Это был мой второй дом. Большую часть детства я прожила в крохотной двухкомнатной квартирке прямо над ним. Взять, к примеру, вот этот стол с двумя длинными скамейками, обтянутыми красной, набивной искусственной кожей. Это был мой стол. За ним я учила алфавит. Зачитывалась «Шпионкой Гарриет» и похождениями Нэнси Дрю. Сто раз выигрывала у мамы и тети Моны в «Клуэдо» и «Мистери Мэншн». А еще нарисовала на обратной стороне столешницы портреты хозяев заведения – миссис Пэтти и мистера Фрэнка.
«Лунный свет» представлял собой мою территорию и проклинать его только за то, что здесь я встретила парня и сотворила глупость, явно не стоило.
– Я бы не прочь прикупить гласную, Пэт.
Мой взгляд упал на женщину, которая сидела по ту сторону стола, потягивала кофе и щурила на меня глаза сквозь накладные ресницы с золотистыми кончиками.
– Э-э-э… Что?
– Да вот, играю в «Колесо Фортуны»[2]… пытаюсь решить головоломку из иллюзорной, но всегда такой интригующей категории «О чем думает Берды?». Беда в том, что мне недостает слишком многих букв, – объяснила тетушка Мона, с видом Ванны Уайт взмахивая над воображаемым игровым полем длинными ногтями, украшенными слайдами с изображением шмелей.
Они идеально шли ее желтому сексуальному сверхмодному в 1960-х годах платью (сплошная бахрома), черной помаде и громоздившемуся на голове ульем золотистому парику, заколотому булавками в виде крохотных крылатых пчел.
Мона Ривера никогда и ничего не делала наполовину. Ни в старших классах, когда они с моей мамой были лучшими подругами, ни сейчас, в зрелом возрасте, когда ей стукнуло тридцать шесть лет. Большинство ее замысловатых нарядов увешивали всякие винтажные штучки, а париками в доме была завешена целая стена. Она позиционировала себя где-то посредине между любительницей косплея и дрэг-квин, а заодно считалась одной из лучших художниц в Сиэтле и его окрестностях. Мона – самая классная и оригинальная личность из всех, кого мне когда-либо приходилось знать, да при этом еще главный человек во всей моей жизни.
Таить от нее секреты было жуть как трудно.
– Ты, конечно, говорила мне, что совсем не нервничаешь, впервые выходя сегодня вечером на работу, но если тебя все же пробирает мандраж, то это вполне нормально, – сказала она. – Наставления, инструктаж, это все было днем, но трудиться вечером – совсем другое дело. Уж поверь мне на слово, ночная смена не для слабаков, поэтому если ты боишься уснуть, а сама мысль о бодрствовании внушает тебе неприятные мысли, то…