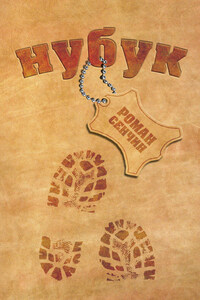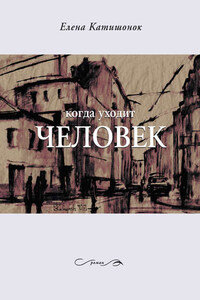– Прошу подать на еду.
В Азии привыкаешь не замечать нищих, не поднимать головы от стола – если сидишь; с резиновой улыбкой обходить их – если шагаешь. Они не будут долго беспокоить вас, они никогда не решатся на физическое прикосновение, они не опасны.
Но когда ты слышишь эти четыре слова… вообще-то три на английском – begging for food… и на каком английском! Вот трансляция из британского парламента, ее величество в куполообразной короне неспешно надевает очки, раскрывает папку у себя на коленях, и… вы слышите и понимаете каждое слово – произнесенное негромко, раздельно, с почти нечеловеческой четкостью, благосклонно и терпеливо. Королевский английский. Несравненный и неподражаемый.
И это был именно тот английский, который я только что услышал.
Невозможно было не поднять в ответ голову от алюминиевого, пустого пока что столика «Бхадху Шаха». Невозможно было равнодушной быстрой полуулыбкой отделаться от этой женщины, стоявшей передо мной на тротуаре, в шаге от границы, разделявшей ресторан и улицу.
Она, казалось, на расстоянии приподнимала мне взглядом подбородок… я вздернул голову еще немного, встретился с ней глазами – а если ты посмотрел на нищенку, то она одержала первую победу, и, скорее всего, ты что-то ей дашь.
Но уже по королевскому английскому можно было догадаться, что нищенка – кто угодно, только не вот это.
Европейцы в Азии – это не одна порода людей, а несколько. Есть туристы в шортах и безразмерных майках, всегда с видеокамерами; есть бизнесмены в промокших на спине рубашках с галстуками; и то, и другое – классика. А тут был, конечно, тоже классический вариант, но совсем другой. Бесспорно европейская женщина, рыжеватая блондинка, но… широкие, суженные к щиколотке марлевые штаны, длинная, ниже колен, рубашка такой же ткани, шарф-накидка… в общем, пенджаби, очень дешевое. Небольшой матерчатый рюкзак за плечами. И все это – с оттенками выцветшего шафрана и серой пыли.
Эту одежду носили, не меняя, уж точно больше года. Эти ноги в простых сандалиях наверняка несут ее от храма к храму – Шива, Кришна, Мухаммед, Будда, Гуаньинь – месяц за месяцем, сотни, если не тысячи километров. Копеечные автобусы, поезда или просто дорога под ногами.
И лицо – с потемневшей кожей (она светлее только в глубине двух морщинок у носа), с благосклонной и несколько отрешенной улыбкой, длинным, чуть выставленным подбородком.
Ее наблюдавшие за мной глаза смеялись – скорее добродушно.
Буддийский монах – если это настоящий монах, а не жулик в шафранных одеждах, каких здесь тоже достаточно, – не просит у вас денег на еду. Он медленно идет с миской для подаяния мимо, предоставляя вам шанс накормить святого человека и этим исправить карту ваших будущих судеб.
И эта женщина вообще-то тоже ни о чем не умоляла. Она даже не пыталась повторить эту фразу – «прошу подать на еду». Она изучала мое лицо со спокойным любопытством, возвышаясь надо мной на тротуаре в позе, которую способны принимать только коренные жительницы Индостана – может простоять так час, а может через долю секунды наклонить голову в знак прощания и тронуться дальше среди слепящей жары, чуть шаркая сандалиями по неровному темно-серому асфальту.
Она уйдет, и чего-то в жизни не случится.
Я поднялся со своего шаткого алюминиевого стульчика – сидеть, когда она стоит, было просто невозможно! – и полез в карман. А дальше… эти веселые изучающие глаза что-то со мной все-таки сделали – я достал бледно-сиреневую бумажку. Подошел к неподвижной женщине поближе – чтобы окружающие не видели, что именно между нами происходит, ведь тогда она потеряет лицо, – и с почтительным наклоном головы вложил бумажку в ее длинную узкую руку.