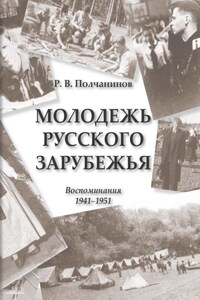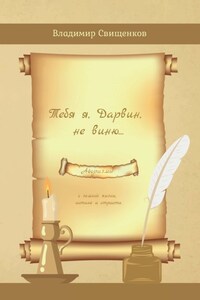Той памятной ночью я сидел у лесного костерка и ни о чем серьёзном не думал. Был конец апреля; три дня назад открылась весенняя охота. Постояв два вечера на тяге и взяв трех рыжих лесных куликов, решил сбегать на глухаря, послушать его весеннюю песню. Расстояние от деревни до токовища не более трёх километров. Это, если идти напрямую. А «по кривой», как обычно в лесу и ходят, мне пришлось сначала переправляться через реку, переходить по бобровой плотине затопленный участок леса, долго топать по сосновым буграм вдоль заброшенной лесной дороги, преодолевать топкое моховое болото. В общей сложности набежало километров семь бездорожья. Под конец, взойдя на сухой сосновый бугор, с радостью – как старого друга – встретил знакомое старое кострище. Расположенное в укромном месте, оно сообщило мне, что с весны прошлого года людей здесь не было. Этот ток знали многие, но уже давно – лет с десяток – он считался выбитым, поэтому местные охотники сюда не захаживали. А ток без охотничьего пресса ожил, количество поющих петухов медленно увеличилось, и в эту весну слетелось на него около двадцати певунов. Это я понял на вечернем подслухе, подсчитав шумные посадки громадных птиц.
Вернувшись с подслуха к костру, раздул прикрытые золой угли и поставил котелок для чая. Пока он закипал, удобно устроился на куртке, привалившись к мощному стволу старой сосны. Было очень тепло. Безветренно. Маленький костер почти не дымил; сухих сучьев хватало. От костра до края тока топать двадцать минут, вселявших уверенность, что чуткие птицы не заподозрят моего присутствия. Свет костра освещал небольшую полянку вокруг лагеря. Временами какая-нибудь сухая веточка вспыхивала особенно ярко; свет, казалось, пытался проникнуть подальше в лес, однако без особого успеха, только тени становились глубже. Где-то в глубине леса несколько раз ухнул филин, да с испугу в кроне сосны тенькнула разбуженная синичка…
Спать почти не хотелось. Искры костра, уносимые вертикально вверх, сначала ярко разгорались, потом – постепенно остывая – становились малиновыми и гасли в вышине, оседая пеплом. Иногда костер пыхал небольшим облачком дыма, возникшим от какого-нибудь мокрого сучка, подброшенного в костер по недосмотру; и тогда забавно было наблюдать, как дымок, завиваясь косами, подхватывал яркие искорки и, кружа в ночном вальсе, уносил особенно высоко, где искорки превращались в яркие звезды…
Так шло время. Чай был выпит, пара бутербродов съедена. Слегка дремалось, сказывалась усталость от преодоления весеннего бездорожья. В полудрёме вместе с искрами костра кружились обрывки воспоминаний, всплывали какие-то мысли, чудились чьи-то голоса… всё это вдруг обрывалось частыми пробуждениями… и уже было трудно сообразить, где явь, а где сон…
Надо думать, в конце концов крепкий сон сморил меня. Иначе я не могу объяснить то, что пережил в эти несколько минут… Среди сна меня как будто что-то толкнуло, и я пробудился. Костер горел по-прежнему, но… его пламя замерло. Замерли искры над костром, замерли попавшие в световой круг ветки сосен, часы на руке не тикали, стрелки стояли, слившись в полночной точке. Остановившееся время застало врасплох писк синички, голосок которой бесконечно выпевал одну и ту же высокую ноту…
Рядом со мной сидел отец, вокруг костра удобно расположились люди. Масса людей. И всем хватало места, что меня почему-то совершенно не удивило. Приглядевшись пристальней, я обнаружил, что все эти люди хорошо мне известны; это были близкие и дальние родственники, друзья и знакомые. Холодок забрался за воротник, быстро пробежал по спине, оставив на коже трусливые пупырышки; развалившееся сознание отказывалось воспринимать невероятное: