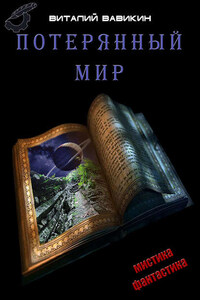Комнату наполнял мягкий утренний свет. Ранние лучи пробились сквозь плотные, но не до конца задернутые шторы и, будто робко, легли на лицо спящей девушки.
Она не сразу открыла глаза – точнее, не открыла их вовсе, но всё равно улыбнулась. Тепло солнца приятно согревало её кожу – светлую, тонкую, почти мраморную, как у фарфоровой статуэтки.
Слишком тёплое солнце для марта, подумала она, слегка приподнимая голову. Наверное, весна в этом году решила прийти раньше.
Она вытянула руку в сторону подушки, ощупывая мягкую ткань, затем провела ладонью по простыне, стараясь мысленно воссоздать привычные контуры пространства.
Каждое утро начиналось так – с тишины, тепла и ощущения, что время замирает хотя бы на пару минут.
Пальцы нащупали край скрипки, аккуратно лежащей на столике у изголовья. Она коснулась её, как старого друга. Скрипка не могла заменить ей глаза. Но она могла рассказать миру о том, что та всё ещё жива.
Девушка на кровати – это Мари Бомон. Последняя из рода старинных французских аристократов, чьё имя десятилетиями украшало витрины лучших ювелирных домов Европы.
"BOMONT Joaillerie" – фамилия, выгравированная на изумрудах, тонких кольцах и фамильных диадемах. Их изделия носили на балах, хранили в частных коллекциях, передавали по наследству, как драгоценные заклинания времени.
Дед Мари делал украшения для королевской семьи Бельгии. Её мать – сдержанная, светская, с глазами цвета льда – однажды разработала украшение, вдохновлённое дыханием зимы. Оно до сих пор экспонируется в Лувре.
Мари жила в доме, где золото не блистало, а говорило шёпотом. Где бриллианты были не роскошью, а наследием. Где красота ценилась не в блеске, а в грани – и в умении её рассмотреть. Сейчас она не видела ни граней, ни света, но помнила, как он чувствуется на коже. Помнила утренний отблеск на матовой поверхности рояля. И цвет янтаря в глазах матери – в тот самый день.
Детство Мари прошло на юге Франции – в небольшом имении, укрытом между виноградниками и оливковыми рощами Прованса. Там всегда пахло солнцем, морской солью и тёплым хлебом, который пекла старая кухарка мадам Люсьен.
Каждое утро начиналось с легкого шороха жалюзи и звонкой переклички цикад. Днём окна выходили на лазурное побережье, где чайки лениво описывали круги над заливом. А вечерами в саду разливался жасмин, и за каменными стенами старого дома начиналась сказка, которую Мари сама себе сочиняла.
Она была на домашнем обучении. Её родители – Антуан и Элоиз Бомон – считали, что никакая школа не сравнится с образованием, основанным на глубине, внимании и личных наставниках.
У неё была гувернантка, мадам Ринальди, пожилая, всегда в светлом, с запахом розовой воды. Мадам Ринальди обучала Мари английскому и итальянскому, и делала это с истинно европейским изяществом: рассказывала об архитектуре Флоренции и стихах Байрона, как будто сама жила в их строках.
Когда Мари подросла, она начала брать частные уроки в музыкальной школе. Это случилось после того, как родители однажды повели её в Ниццу – в филармонию на концерт Оркестра Национальной Оперы Монте-Карло
В тот вечер она сидела с широко распахнутыми глазами, едва моргая. Её дыхание слилось с дыханием зала. Скрипачи, словно птицы, вывели мелодию над оркестром.
И Мари тогда поняла: она хочет звучать так же.
С тех пор в доме поселились звуки фортепиано и струн. Иногда, особенно по выходным, она брала уроки живописи у молодой художницы из Марселя. Мари рисовала морскую гладь, скалы, профиль матери, чашку с какао, которая стояла на окне. Всё, что видела и чувствовала – переводила в цвет и форму.
Она росла в мире, где искусство было не привилегией, а дыханием. Где чувства не прятали, а выражали – в звуке, в мазке, во взгляде.