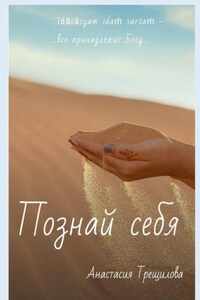Не верилось, что я доживу до этих драматических лет, когда попросят меня поделиться воспоминаниями о Волине.
Ушел он до срока, хотя положено считать его годы вполне естественными для неизбежного расставания. Когда-то нас разделяли с ним более пятнадцати лет – теперь я гораздо старше него. Никак я к этому не привыкну – всегда ведь смотрела снизу вверх.
И грустно мне нынче, зачем скрывать? Странно устроена наша жизнь – иной раз от добрых новостей (а интерес к нему – добрая весть) печалишься более, чем от дурных. Может быть, тут виной мои годы – смещают и ракурс, и восприятие. Теперь он мне кажется молодым.
К тому же даровитые люди неведомым образом ухитряются почти до седых волос сохранять столь неуместную инфантильность. Она, кстати, выглядит так же курьезно, как затянувшаяся девственность у нашей сестры – и с целомудрием расстаться следует своевременно.
Вы просите написать о том, что мне запомнилось о Волине. Тут возникает и та опасность, что надо будет говорить о себе. Старые дамы не прочь намекнуть, что, если б не их безупречный такт, они бы доходчиво объяснили, кому в самом деле обязан читатель.
Однако меня ничуть не прельщают сомнительные лавры Авиловой, хоть ей удалось запудрить мозги даже весьма ядовитому Бунину. Он сразу признал, что мемуаристка была потаенной любовью Чехова.
Вполне возможно, что Бунин лукавил. Его очевидная неприязнь к Ольге Леонардовне Книппер могла побудить его вдруг припрятать свои беспощадные коготки и неожиданно изобразить не свойственное ему простодушие.
Я, впрочем, не хочу комментировать биографии знаменитых людей. Особая зона: я убедилась, что в ней происходит своя игра, и часто это – игра без правил.
А мне, как вы знаете, много лет, но мало сил, чтобы блуждать в лабиринтах. Я не спешу занять место в очереди. Я попросту расскажу, что я помню, и поделюсь с вами тем, что думаю. И его юность, и его молодость достались другим, я была с ним рядом уже в достаточно зрелую пору.
Навряд ли можно его назвать легким в общении человеком. Никто не мог бы его укорить в подчеркнутой замкнутости, но не спорю – разговорить его было трудно. Сам он не раз и не два замечал, что графоманы, такие, как он, в конце концов устают от слов – по этой причине приходят к сдержанности.
Он избегал «больших полотен», свой так называемый минимализм он объяснял своей плодовитостью. Однажды грустно сказал, что краткость не столько стремление к совершенству, сколько свидетельство об исчерпанности. «Слова иссякают вместе с возможностями», – вздохнул он в одной из наших бесед. По вредности я его обвинила в кокетстве, он сумрачно промолчал.
Чем я внушила ему доверие и почему он со мною делился так щедро своими соображениями? Не знаю. Зачем мне об этом думать? Всегда есть соблазн заговорить о некоторых своих достоинствах – вот так и соскальзываешь в муравейник, где шумно и неутомимо хлопочут иные профессиональные музы. Надеюсь – не угожу в паноптикум.
Я ворошу свои старые записи, свои дневнички, свои заметки – как многие, я не избежала попыток хотя бы так укротить струящееся меж пальцев время. Эти конвульсии не помешали заняться общеполезным трудом – зато сегодня так пригодились. Память – непрочное вещество, и на нее нельзя полагаться.
Служила тогда я в бойком журнальчике, который при всей своей внешней лихости неотвратимо дышал на ладан.
Обидно. Безвременная кончина этого тощего органа мысли сулила мне сложности и заботы. Мне померещилось, что повезло, что я обрела наконец свою нишу, в которой относительно сносно могу провести хоть несколько лет. Но становилось все очевидней – надежды эти безосновательны.