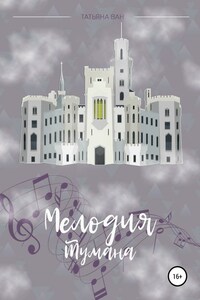Лишь только приближался сентябрь, он опять начинал чувствовать тревогу и печаль, и даже тоску. Опять те же несбыточные сны приходили, все те же неизбываемые, незабываемые сны. И упрек, что он не все сделал, что мог. Вернее, то, что он должен был совершить и не совершил. Он опять представлял 1-е сентября – все ту же умножаемую свою с каждым годом жажду и зависть, которую он испытывал на опустевших утренних улицах, когда молодые люди все уже скрылись за стенами школ, за дверями школы или института. Только он один будет вне. «Что тебе надо еще? – спрашивал он сам себя, – какого еще образования? У тебя же оно есть, уже есть одно». Однако не мог отбросить свое чувство осенней вины. Хотя раньше чувствовал всегда радость избавления от повинностей экзаменов, от постоянной угрозы решающего выбора. Но все переменилось в последние годы. Он увидел себя со стороны. Однажды увидел себя в зеркале, когда он не знал, что за ним наблюдают. И нелегко ему было теперь оставаться прежним.
Сны эти были об одном и том же: словно он в конце семестра видит, как много несданных, незачтенных предметов, дисциплин у него, но с легкомыслием продолжает не столько учиться, сколько проматывать время. Надвигается неизбежная развязка, но тут он выскальзывал в явь. Однако чувство какой-то неизбытой, незачтенной вины не уходило. Сон намекал ему на что-то важное, что он должен был еще совершить. И это важное можно было найти только там, откуда он давно уже ушел: из школы, из университета, которые он закончил уже столько лет назад. Но никакие ученые степени – их у него было уже две – не меняли его состояния вины и тихого, но властного указания.
Сам он хотел учиться, захотел, просто возжаждал, почувствовал прежний голод. Но ему хотелось не просто повысить или «возвысить» знание, но начинать, начать словно бы заново. Был он готов к этому – обновлением и молодостью веяло из школ. Но переступить порог университета или школы в качестве преподающего страшился. Представить себя в роли учителя, преподавателя не мог. Потому что начавший учить, – так он думал, – преподавать то, что преподавали ему самому, начинает умирать. Ведь тем самым он показывает, что уже выполнил свою миссию здесь – вот он наполнился знаниями, а теперь просто их проливает, передавая следующему безымянному ученику. Поэтому с таким ужасом он услышал предложение своего друга – как раз в конце августа прошлого года, – настоятельную просьбу того начать преподавать в новом университете. Вернее, сам гуманитарный университет был не такой уж новый, но там должны были возобновиться, в который уж раз, Высшие женские курсы, и именно туда, полагал друг, лежит его дорога учительская. «Новое сейчас именно женское, не понимает это лишь осел», – говорил его друг, тайное имя которого было, впрочем, как раз Ослик (или Ойслик для совсем уж узкого круга друзей). Не потому что он был глуп, а как раз из-за своей склонности к неподвижным и долгим размышлениям. Он сказал Ослику, что пока не готов. Что ему надо обдумать все и подготовиться. Но причина истинная была в другом: он понял, что не может идти преподавать, не учась сам. Потому что, не начав заново каждодневно наполняться, он будет лишь иссякать. Не видел он выхода из такого безвыходного положения, пока среди года не осознал, что может разрешить такую антиномию, или дихотомию единственным образом: стать и учеником, и учителем одновременно. Тогда он сможет вернуться в молодость и вернуть себе молодость обновлением знания. И удержать их в равновесии на своих же руках. Тогда его присутствие в создающемся университете будет оправданно.