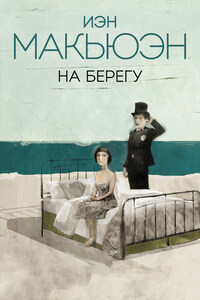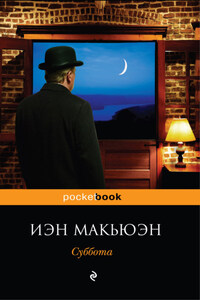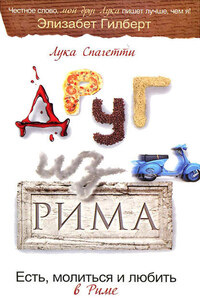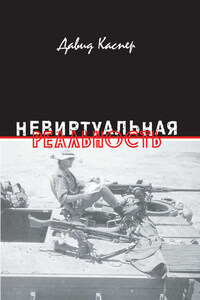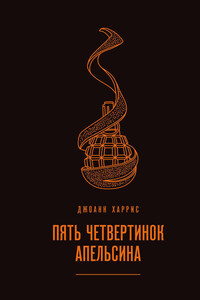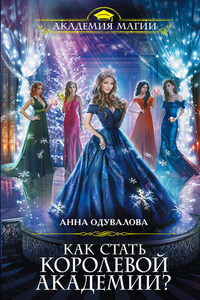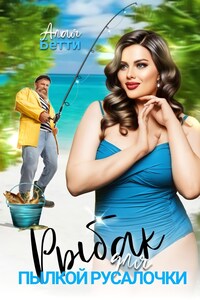Закончив очередную главу «Мечтателя», я читал ее вслух моим детям. Договоренность была простая: они выслушивали свежую часть того, что мы называли рассказами о Питере, а я выслушивал полезные редакторские замечания. Этот приятный, почти ритуальный культурный обмен сказывался на самом письме: я стал внимательнее относиться к звучанию взрослого голоса, произносящего каждую фразу. Этот взрослый был не просто мною. У себя в кабинете я читал отрывки воображаемому ребенку (не обязательно своему) от лица воображаемого взрослого. И языку, и уху – я хотел угодить им одинаково.
Я полагал, что потребности ребенка знаю инстинктивно: интересная история – это прежде всего симпатичный герой; злодей – да, но не каждый раз, они чересчур упрощают; ясное начало, неожиданные повороты в середине и удовлетворительная развязка, не всегда счастливая. К взрослому я испытывал не совсем смутную симпатию. Всем по душе обряд укладывания детей со сказкой на ночь: свежее мятное дыхание, широко раскрытые, доверчивые глаза, грелка между чистых полотняных простынь, сонное теплое согласие – кто не хотел бы, чтобы эту сцену запечатлели на его могильной плите? Но в самом ли деле любят взрослые детскую литературу? Я всегда думал, что энтузиазм этот слегка преувеличен и даже с оттенком отчаяния. «Ласточки и амазонки»?[1] Беатрис Поттер?[2] Чудесные книги! Вправду ли мы так думаем или мысленно возвращаемся к себе прошлым, почти забытым, и говорим от их имени? Когда в последний раз вы угнездились в постели со «Швейцарским Робинзоном»?[3]
Нам нравится в детских книгах то, что они доставляют радость нашим детям, и тут замешана не столько литература, сколько любовь. Еще в начале работы над «Мечтателем» и чтения его вслух я подумал, что, может быть, стоит забыть о нашей могучей традиции детской литературы и написать книгу для взрослых о ребенке языком, который будет понятен детям. В век Хемингуэя и Кальвино[4] простая проза не должна отвратить искушенного читателя. Я надеялся, что предмет ее – само воображение – имеет прямое касательство к каждому, кто берет в руки книгу. Превращение тоже всегда было темой, интересовавшей – почти до одержимости – литературу. «Мечтатель» вышел в иллюстрированном издании для детей в Британии и Соединенных Штатах и в более скромном виде для взрослых – в разных других странах. Когда-то было принято в посвящении предоставлять книгу ее судьбе, а не отправлять по-родительски в мир, как ребенка. «Ступай, моя книжечка…» Эта книга может тихо поселиться в уголке детской библиотеки, а может и умереть в забвении, но пока, я все же надеюсь, она способна доставить какое-то удовольствие разным людям.
Иэн Макьюэн
1995
Когда Питеру Форчуну было десять лет, взрослые, случалось, говорили ему, что он трудный ребенок. Он их не понимал. Он совсем не чувствовал себя трудным. Он не бросал молочные бутылки в стену сада, не выливал себе на голову кетчуп, изображая, что это кровь, не рубил лодыжку бабушке саблей, хотя иногда подумывал об этом. Ел он все, кроме рыбы, яиц, сыра и овощей, – даже картошку ел. Он был не шумнее, не грязнее и не глупее всех своих знакомых. Имя и фамилию его легко было произнести и написать без ошибок. И лицо его, бледное, в веснушках, нетрудно было запомнить. Он каждый день ходил в школу, как все дети, и за особый подвиг это не считал. Допустим, с сестрой воевал – но и она с ним тоже. И никогда к ним не стучались полицейские, чтобы его арестовать. Врачи в белых халатах никогда не предлагали отвезти его в сумасшедший дом. В общем, на взгляд самого Питера, жить с ним было вполне легко. Чего в нем трудного?
Понял это Питер позже, когда уже давно был взрослым. Его считали трудным потому, что он был молчалив. Это людей беспокоило. А еще он любил быть один. Конечно, не все время. И даже не каждый день. Но любил уединиться на часик у себя в спальне или в парке. Любил побыть один и подумать свои мысли.