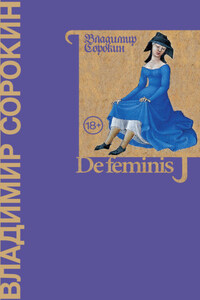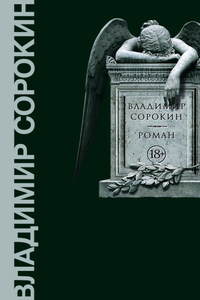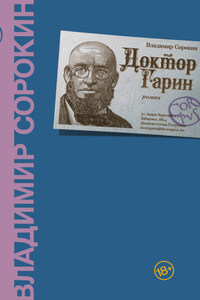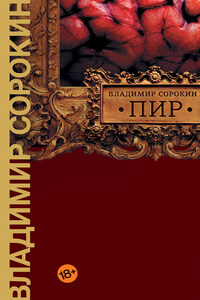Покойник спать ложится
На белую постель,
В окне легко кружится
Спокойная метель…
Александр Блок
– Да поймите же вы, мне надо непременно ехать! – в сердцах взмахнул руками Платон Ильич. – Меня ждут больные! Боль-ны-е! Эпидемия! Это вам о чем-то говорит?! Смотритель прижал кулаки к своей барсучьей душегрейке, наклоняясь вперед: – Да как же-с нам не понять-то? Как не понять-с? Вам ехать надобно-с, я понимаю очень хорошо-с. А у меня лошадей нет и до завтра никак не будет!
– Да как же у вас нет лошадей?! – со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. – На что же тогда ваша станция?
– А вот на то, что лошади все повышли, и нет ни одной, ни одной! – громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. – Разве вечером чудом почтовые свалятся. Так кто ж знает – когда?
Платон Ильич снял пенсне и уставился на смотрителя так, словно увидал его впервые:
– Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают?
Смотритель, разжав кулаки, протянул руки к доктору, словно прося подаяния:
– Да как же не понять-с? Отчего ж нам не понять-с? Люди православныя помирают, беда, как же не понять! Но вы в окошко-то гляньте, что творится!
Платон Ильич надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день.
Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки бабы-яги: они показывали четверть третьего.
– Третий час уж! – Он негодующе качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. – Третий час! А там и смеркаться начнет, понимаешь ты?
– Да как не понять-с, как же не понять… – начал было смотритель, но доктор решительно оборвал его:
– Вот что, батенька! Доставай мне лошадей хоть из-под земли! Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу. За саботаж.
Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться. Его слегка согнутая в пояснице фигура в короткой душегрейке, плюшевых штанах и высоких белых, подшитых желтой кожей валенках застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязаньем в дальнем углу за ситцевой занавеской, заворочалась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшее осточертеть доктору за эти два часа ожидания, пития чая с малиновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней «Нивы»:
– Михалыч, нешто Перхушу просить?
Смотритель сразу пришел в себя.
– Можно и Перхушу упросить, – почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. – Но они ж хотят казенных лошадей.
– Мне все равно каких! – воскликнул доктор. – Лошадей! Лошадей! Ло-ша-дей!
Смотритель зашаркал к конторке:
– Ежели он не у дяди в Хопрове, можно и упросить…
Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти:
– Миколай Лукич, Михалыч тревожит. Скажика, что наш хлебовоз к вам сёдни не проезжал? Нет? Ну и ладно. А как же! Куда ж нынче ехать, тут нет возможности никакой, а как же. Ну, благодарствуй.
Он осторожно положил трубку на рычажки и с признаками оживления на неряшливо выбритом, безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору:
– Стало быть, сёдни наш Перхуша за хлебом в Хопров не поехал. Здесь он, на печи лежит. А то он как за хлебом поедет, так сразу мимоездом – к дяде. А там – чай да лясы-балясы. К вечеру токмо нам хлеб и привозит.
– У него лошади?
– Самокат у него.
– Самокат? – сощурился доктор, доставая портсигар.
– Коль упросите его, он вас на самокате в Долгое и доставит.