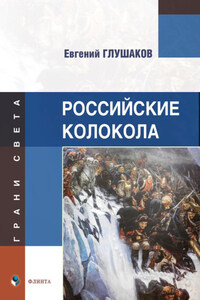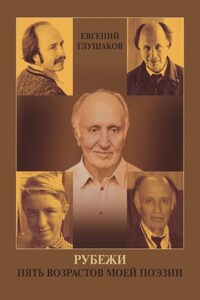Могущество художника, поэта —
Проклятый дар. К чему ни прикоснусь,
Будь то осколок зимнего рассвета
Или цветок – уродливая грусть
Порабощает существо предмета.
С вертлявой канарейкою займусь,
Учу по нотам… А засвищет – грустно.
И стиснул пальцы зябкие – до хруста.
Уменье боги ниспослали мне:
Реальность побеждать воображеньем.
Увы, победа, лестная во сне,
Готова обернуться пораженьем;
Чреваты неуютным пробужденьем
Любые сны… Прекрасные – вдвойне.
Неровен час: проснувшись, обнищаем,
Лишившись драгоценных обещаний.
Обыкновенно наступает день,
Когда, устав от мутных сновидений,
Спешим стряхнуть мечтательную лень
И расширяем круг своих владений
Реальным миром, где любая тень
Роскошней, слаще полуночных бдений;
Всю чертовщину отметаем разом.
Довольно снов. Покончили с экстазом.
Уже не тщимся мир перевернуть.
И не скандалим. Ценим то, что близко.
Просторней разворачиваем грудь,
Освобождая прежний стих от риска,
Чтоб выдохнуть полнее и вдохнуть.
И смущены, что поступали низко,
Поскольку не однажды верность вдовью
Умели грубо распалить любовью.
Пришло прозренье. Сброшен капюшон
Благополучных, милых заблуждений.
Застукали с любовниками жён,
И сразу – перед пропастью сомнений.
Взываем к истине, но моралист – смешон.
Рога на стенке – атрибут семейный.
Все это знают. Мир без дураков.
По праздникам сметаем пыль с рогов.
Растрачен на бессмертие аванс.
Жизнь прожита случайно, вхолостую…
Вдруг ненароком разобидел вас?
Ещё опасней девственность святую
Хоть пальчиком задеть… На этот раз
Я о вещах серьёзных повествую
И – про любовь! Ну а теперь по плану
От болтовни – перехожу к роману.
Героя моего зовут Андрей.
Его с рожденья пеленали в ситец.
В деревне рос. Остался верен ей.
Теперь он – деревенский живописец.
ИЗО ведёт сугубо для детей;
Они ещё в постель изволят пи́сать,
А он их учит красками писáть.
Привадил к дому. Недовольна мать.
И то сказать, его уроки странны:
Рассядется по лавкам детвора,
Галдят, макают кисточки в стаканы
И в краску… Клякса – облако, гора!
Малюют сны, неведомые страны…
Урок? Навряд ли… Шутки, смех, игра!
Бывало, упрекну его при встрече.
Молчит, чудак… Оправдываться нечем?
А помнится, завидовал ему
В студенческую пору, в институте:
Его мужицкой смётке и уму,
Напористо стремящемуся сути,
Упрямству… Но особенно тому,
Как он писал – торжественно до жути:
По-бычьи упирался в пол ногами,
Как будто камень громоздил на камень.
А Муза – и легка, и своенравна:
Безумного надеждой усмирит,
Внушит тихоне громовержца право,
Романтика в корявый ввергнет быт,
Над скромником, глядишь, сияет слава,
А гений всеобъемлющий забыт…
Кто понимает, что за баба – Муза,
Не вздорит – ищет брачного союза.
Мне помириться с Музой удалось.
Капризная? Пришлось приноровиться.
Она шептала: «Стань самоубийцей!»
А я кивал, умно скрывая злость.
Она меня вела – и вкривь, и вкось,
То оттолкнёт, то нежно подольстится…
И, лицемерно разыграв ханжу,
С дурашливою Музою дружу.
Андрюха и в искусстве был упорным.
Натягивая нос профессорам,
Подчас казался чистоплюем нам,
И даже проявлял зазнайство, гонор,
Нередко спорил, надрываясь горлом,
Придирчив – до наивности – к словам…
Для Музы человек такой – обуза,
Но от него не уходила Муза.