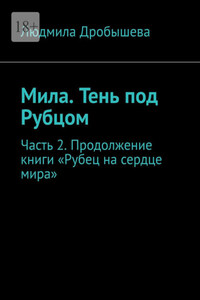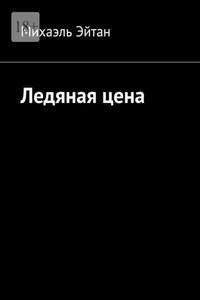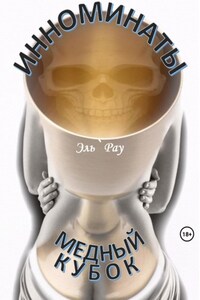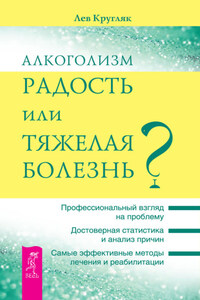ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ 2: «МИЛА: ТЕНЬ ПОД РУБЦОМ»
Родник пел. Чисто, звонко, как серебряный колокольчик, разбивающий осеннюю тишину. Вода, вымывшая из себя черную скверну и ржавчину Гориславовых клиньев, била из-под корней дуба Велеса холодной, живой струей. На обугленной, израненной громадине ствола, чуть выше места, где цепями держали мать и брата, держался один-единственный лист. Ярко-зеленый. Наглый. Хрупкий.
Мир. Он был. Выстраданный кровью, пеплом и разумом матери. Мила сидела на мшистом камне, впитывая его каждой порой, каждой трещиной в душе. Рука бессознательно прижималась к груди, к грубому, багрово-лиловому рубцу под тканью рубахи. Рубцу. Не шраму. Шрамы заживают. Рубцы – это запечатанные врата. Врата в Навь. Врата к ней. Они молчали. Пока. Но холодок от них, как от глубокого колодца, пробирал даже сквозь шерсть тулупа.
Рядом, на разостланной волчьей шкуре, лежала Ведана. Дышала. Ровно. Глубоко. Как спящий утес. Ее глаза, когда-то такие мудрые, острые, цвета спелой черники, теперь были открыты. Смотрели в серое небо. Пустые. Бездонные озера, в которых утонула мать Милы. В них не было ни узнавания, ни боли, ни страха. Только тихая вода над бездной. Уход. Вечный и страшный своей немотой. Каждое утро Мила подходила, гладила холодную щеку, шептала: «Мама?» Ответом был лишь ровный шум дыхания да шелест умирающей осенней листвы.
Тишина. Она висела над поляной. Не мирная. Напряженная. Ядовитая. Как пленка на болотной топи Кривой Старицы. В ней звенел смех малыша – племянника, ковылявшего по мху за пестрой бабочкой. В ней скрипел лук Светозара – брат чинил оружие, лицо каменное, глаза прищурены от невидимой боли. В ней булькала и чавкала сама Старица где-то за холмом, напоминая о своем гнилостном нутре.
И в ней каркал ворон. Один. Всегда один. Сидел на почерневшей ветке над зеленым листом дуба. Черный, маслянистый, как кусок ночи. Его желтый, безжалостный глаз неотрывно следил за Милой. За рубцом на ее груди. За пустотой Веданы. Он не нападал. Не воровал. Просто наблюдал. Посланник. Напоминание. «Я здесь. Жду. Твоя боль – моя нажива».
Мила вдохнула воздух, пахнущий прелой листвой, чистой водой и… едва уловимым дымком далеких пожарищ. Она сжала пальцы в кулак, ощущая под ними холод рубца. Покой – это обман. Покой – это передышка. Корни держатся, но под ними уже шевелится тень. Тень старой костяной избушки. Тень предательства. Тень боли, которую еще только предстоит заплатить.
Она знала: час «Х» Яги еще не пробил. Он тикал. Где-то под грубым шрамом. В пустых глазах матери. В черном зрачке ворона. В тихом смехе ребенка, который мог быть отнят.
Мир был. Но он висел на паутинке над бездной. И паутинка уже дрожала.
Глава 1: Хлеб из Пепла и Холод под Рубахой
Родник пел. Чистота его голоса резала слух после месяцев выжженной тишины и предсмертного хрипа. Вода, вымывшая ржавчину и черную скорбь Гориславовых клиньев, била из-под корней дуба Велеса холодной, нагло живой струей. На обугленном боку исполина, чуть выше колец от цепей, держался один-единственный лист. Ярко-зеленый. Дерзкий. Хрупкий.
Мир. Он был. Выкованный кровью, выжженный пеплом и купленный разумом матери. Мила сидела на мшистом камне, пытаясь впитать его каждой трещиной в душе. Рука бессознательно прижималась к груди, к грубому, багрово-лиловому рубцу под грубой холщовой рубахой. Рубцу. Не шраму. Шрамы затягиваются. Рубцы – это запечатанные врата. Врата в Навь. Врата к ней. Они молчали. Пока. Но холод от них, как из глубокого погреба смерти, пробирал даже сквозь овчину тулупа.
Рядом, на волчьей шкуре, потертой до лысин, лежала Ведана. Дышала. Ровно. Глубоко. Как спящий валун. Ее глаза, когда-то острые, пронзительные, цвета грозовой тучи, теперь были открыты. Смотрели сквозь серое небо. Пустые. Бездонные колодцы, в которых утонула мать Милы. Ни искры. Ни тени. Только плоское отражение облаков. Уход. Вечный и страшный своей абсолютной немотой. Каждое утро Мила подходила, гладила холодную, восковую щеку, шептала: «Мама?» Ответом был лишь мерный шелест воздуха в перебитом горле да скрип веток почерневшей сосны.