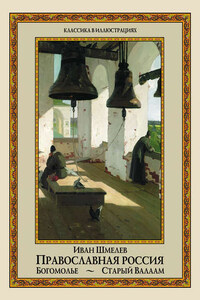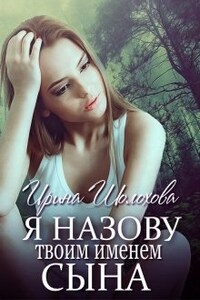Старшего брата у меня не было. Но были товарищи постарше.
В то время как моим одногодкам предстояло еще несколько лет учиться, те были уже на взлете, примеривались к будущим профессиям (нам на зависть!). Помню красивый голос Коли Мерперта, читающего монолог Отелло и явно мечтающего стать вторым Остужевым.
Вот и бакинский юноша Женя Войскунский поступил в ленинградскую Академию Художеств. «Прекрасным летним утром я шел по Невскому проспекту, – вспоминал он десятилетия спустя, – и у меня дух захватывало от его красоты… лучший в мире город приветствовал меня блеском витрин, звоном трамваев…»
Но по недавнему воинскому закону вскорости предстояло идти в армию. В октябре 1940 года новобранец оказался в гарнизоне той самой военно-морской базы на Ханко, ставшей несколько месяцев спустя местом жестоких боев. «Пять месяцев мы держали этот полуостров, обсыпанный, будто крупой, мелкими островками», – говорится в романе Е. Войскунского «Мир тесен».
После же этой тяжелейшей обороны предстояло испытать драматический переход в Кронштадт по заливу, буквально нашпигованному минами, когда подорвался огромный теплоход «Иосиф Сталин».
В свое время, еще на Ханко, недавнему студенту Борису Земскову (от чьего лица ведется повествование) была невыносима мысль о погибшем и не похороненном друге. Память же об оставшихся на «Сталине» живых людях, желание узнать их дальнейшие судьбы и причины, почему им не пришли на выручку («Ушли, значит, корабли, а они остались на минном поле. И все ждали, что придут их сымать. А море пустое»), – все это не может уняться за всю жизнь Земскова, побуждая к «бестактным» обращениям к «высокому» начальству, «излишним» расспросам, что иной раз не лучшим образом сказывается на его собственной флотской службе.
Есть среди других эпизодов войны на Балтике, в изобилии существующих в романе, краткое упоминание о неудачном, несмотря на весь проявленный тогда героизм, десанте на эстонское побережье. И вот уже в совсем недавнем новом романе Войскунского «Румянцевский сквер» с той же неслабеющей «земсковской» страстностью воскрешена, воспета и оплакана история этого батальона морской пехоты, высаженного «ночью, продутой ветром, чреватой бедой» в ледяном феврале сорок четвертого возле деревни Мерекюля.
История, не дающая покоя немногим уцелевшим ее участникам и свидетелям и прочно связывающаяся в их мыслях и чувствах со всем драматизмом прошлого и настоящего. Горечь за искалеченные судьбы (будь то мытарства попавшего в плен десантника Цыпина или «Житие Акулинича», как названа глава о сыне «врага народа», который уже совсем в позднюю советскую пору в свою очередь сгинет в «родимом» концлагере) соседствует в книге с гневным презрением к казенному равнодушию и в особенности – к разжиганию межнациональной розни.
Политиканы вроде Самохвалова пользуются нынешней растерянностью и угнетенностью многих людей из поколения, вынесшего все тяготы войны. Больно читать в последнем сборнике стихов жизнерадостного в прошлом Михаила Дудина (послужившего в значительной мере прототипом Сашки Игнатьева в романе «Мир тесен»):
И ворон простер над пространством крыла.
И – ни огонька в утешенье.
Была ли победа? Была да сплыла!
Осталось одно пораженье.
И нет половины России. И нет
Великой и дерзкой отваги.
И мрачен холодный и мутный рассвет.
И выцвели гордые флаги.
«Вам чего дали за вашу победу? Дырку от бублика?» – слышит Цыпин от сына, верящего, будто Самохвалов «болеет за русский народ», да он и сам, увы, прислушивается к надрывным речам этого оратора, натравливающего на «инородцев», якобы повинных во всех несправедливостях и бедах.
О страшных последствиях подобных «теорий» рассказано в романе «Девичьи сны». Еще недавно бакинцы гордились своим городом как «самым интернациональным в мире». «На национальность разве смотрели?» – говорит старожил, заслуженный бурильщик-нефтяник, армянин Галустян, чью дверь теперь зловеще метят крестом – прямо как в средневековье.