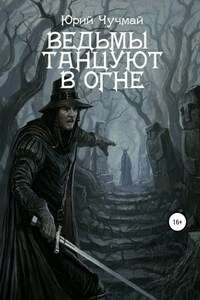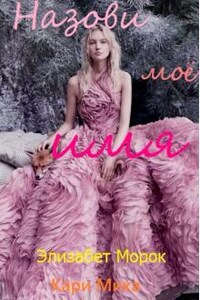1. Это так страшно – "Ми-тя"
Мое имя – Митя – мне не нравится. Прежде как-то не замечал, но пришел переходный возраст, я стал невыносимым и перестал выносить свое имя. Дмитрий – звучит, как на приеме, а Димитрий – как на поле брани. Хуже всего само – «Митя». Мой одноклассник Шурка Осяев все время плетет про меня всякие туповатые стишки, говорит, что «я удачно рифмуюсь»: «Митяй – штаны отдай», «Митяй – Маклуховский Маклай»… У меня с рифмами плохо. Я только и мог придумать что: «Шурка – похож на полудурка». Но он сказал, что так стихи не пишут:
– Нужна новизна, свой подход. А «полудурок» – это слово известное, и использовал ты его самым банальным образом.
Зато, по делу. Я Осяева все равно за поэта не считаю, и зову, когда он треплет в своих стихах мое честное имя, не иначе как Осляевым.
Митей меня мама назвала. Она говорит, что когда я родился, я так благородно орал, что акушерка меня от почтения едва не выронила, а сама она, увидев меня и услышав, прослезилась, и сказала: «Дмитрий Алексеевич!» И потеряла сознание.
Я не верю. Все как в кино. А раз уж на то пошло, то назвала бы меня Изяславом. Хотя… Все равно бы что-нибудь Осяев придумал, звал бы то Изей, то Славой, а то бы еще – Славным Изей…
Но все это ерунда по сравнению с тем, как страшно звучит мое имя! Я узнал об этом ночью, до смерти испугавшись этих звуков: «Ми-тя…»
Вам кажется это смешным! А вы легли бы для начала на кровать, когда за окном полная луна, деревья в саду тихие и мертвые. Все застекленело, и кажется в траве, под деревьями в желтоватом сумраке что-то шевелит своим замаскированным хвостом, крадется к лунному свету из зарослей малины…
Но и это еще не страшно. Можно не смотреть в окно, набегаться, как следует, облиться водой из ведра, прямо из-под крана и, повалившись на подушку, сразу уснуть.
Это папина рекомендация. Он время от времени льет на себя воду ведрами. Причем и зимой – тоже. Потом болеет гриппом, ругает свой «чахлый организм» и набрасывается на меня, что, вот и у меня будет такой же, если я… И дальше все больше про спорт, про тело и дух. Но я обливаться не могу. Синею. Папа говорит, что это с непривычки, и от недостатка железа в крови.
А железа во мне – хоть отбавляй! Я почувствовал это той роковой ночью, когда и началось настоящее «страшно», я узнал, как застывает и твердеет моя кровь.
Вначале она закипела, а потом стала остывать, тело онемело и превратилось в чугунное литье. А, став металлической загогулиной, я не мог бежать.
Все началось с ерунды. И вообще – ни с чего не началось. Просто я лег спать, закрыл глаза и услышал какой-то звон. Открыл глаза – ничего. Тогда я встал, выглянул в окно: кто это там звенит? Никого, только черные деревья и серебристые листья на макушках. Я представил, как на меня смотрит из-под корней какой-нибудь зловещий дух – метров с пяти-шести, и думает, как бы в меня поудачнее впиться. Страшно до противного!
Я скорей прыгнул под одеяло и свернулся калачом, и почувствовал, какие у меня корявые коленки – как у маленького: исцарапанные, с жесткой обветренной кожей. Таких коленок в моем возрасте иметь нельзя, но что же делать?
Именно в этом месте, не успев додумать о коленках, я увидел стоящую за спинкой кровати женщину. Вначале я подумал, что это какая-то простыня повисла и пугает меня. Но на чем повисла? Там виснуть не на чем. И чего бы это простыня стала поворачиваться? Возможно, в ней завернута кошка! Кошка… Но у нас нет кошки, только кот. А он последнее время дома не живет. Орет на соседней улице под окнами нашего директора школы. Или воет замогильно на крыше с другими котами. Вот где жуть-то… Хотя какая там жуть? Вот это – то, что стоит за моей кроватью – вот это жуть.