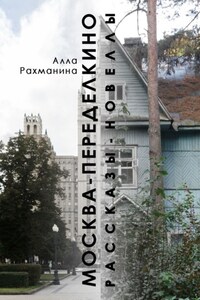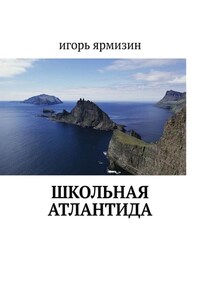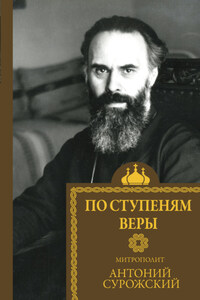Завидовала.
Всегда.
Сколько себя помню.
Всем, кто произносил это слово. Одно-единственное, совсем короткое.
Всем, кто произносил его по отдельности и вместе с другими словами. По случаю и без. Обращаясь к кому-то или рассказывая о ком-то.
На тех, кого словом этим называли, я смотрела с тайным, немым благоговением. И неизменно удивлялась, замечая в них какие-то чересчур обычные, чересчур бытовые качества. Не могла понять, почему они с таким – кажущимся? – терпением стоят в очередях или громко хохочут над собственными – собственными ли? – остротами.
На улицах, в метро, в лифтах я всё время оглядывалась, приглядывалась. Словно хотела обнаружить, разгадать, запечатлеть в памяти неповторимые черты – хотя бы одну чёрточку! – человека, которого могла бы я назвать этим словом.
Я неутомимо искала этого человека. Важен был любой след. Самый незначительный. Постоянно перебирала в памяти всё, что имело бы хоть какое-то к нему отношение. Когда обрывочные зыбкие сведения, воспоминания о чьих-то воспоминаниях заводили в тупик, я принималась перебирать вещи, окружавшие меня и – некогда, возможно, – его.
У вещей есть память. Говорят, «тоже» есть, но нередко эта память гораздо надёжней человеческой. Нередко, но не всегда. Того, что было с ним непосредственно связано, к чему прикасались его руки, давно не стало.
А может, и вовсе не было? Как и его самого – в моей жизни?
Но почему тогда мне так отчаянно его не хватало, почему постоянно недоставало его дружбы, его покровительства, его любви?
Вновь и вновь – который десяток лет – я исследовала свой дом и всё, что имелось в моём доме, всё, что окружало меня с малых лет и окружает по сей день. Кладовка, антресоли, старинный, катастрофически рассохшийся письменный стол с множеством набитых всякой всячиной ящиков. Несколько разномастных чемоданов, вроде фибрового, без ручки, перевязанного закаменевшим ремешком. Ученические портфели, пухлые от моих зачем-то сохранённых, плотно слипшихся тетрадок по арифметике и русскому языку.
Едва ли не по году уходило на каждый ящик, едва ли не по два – на антресоль… А я всё искала. И – странно, невозможно поверить – нашла!
Нашла!
В вещах мамы, которой давно нет, в её старомодном ридикюле с тускло светящимися шариками бронзовой защёлки. В газовый шарфик, хранивший аромат древних духов «Красная Москва», были завёрнуты две исписанные твёрдым бисерным почерком открытки. Всего две.
Открытки самые обыкновенные, почтовые. Точно такие же присылали когда-то из районной библиотеки, напоминая о не сданных в срок книгах. В таких же когда-то грозились отключить телефон, если своевременно не оплатить.
Твёрдый бисерный почерк.
Я словно бы всегда знала его. Такой понятный, родной. Но невероятно было то, о чём он писал. В этих открытках он писал – обо мне. Писал – мне! Ждал встречи – со мной. «Вот победим и…» Шёл декабрь сорок первого. И всего второй месяц моей жизни.
Обыкновенные открытки…
Самым удивительным, завораживающим, гипнотизирующим было в них то самое слово, единственное, сокровенное, которое я так долго искала. Посылая мне, двухмесячной, – а может быть, и мне сегодняшней? – горячий фронтовой привет, он подписался новым, ещё непривычным для себя званием.
«Папа».
И я повторяю это прекрасное слово, столь простое и столь драгоценное, вчитываясь в расплывающиеся бисерные строки. Я повторяю его без конца, как заклинание, как молитву.