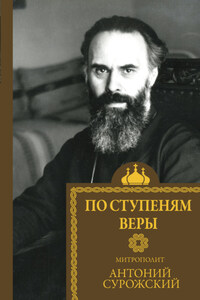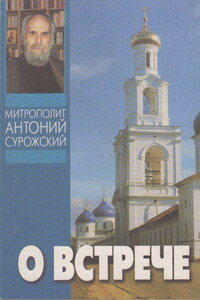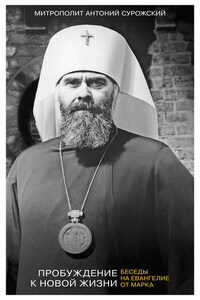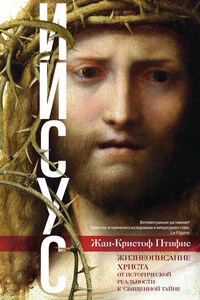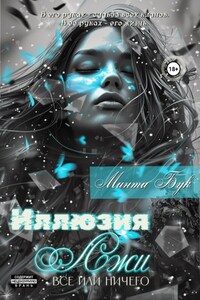История существует не для историков, медицина не для врачей, а богословие не для богословов. Один из самых важных, самых проникновенных и глубоких христианских мыслителей и церковных деятелей XX – начала XXI века митрополит Сурожский Антоний (Блум) сознавал это с предельной ясностью. Тем более, что по «первой профессии» он был врачом, хирургия на долгие годы стала его призванием, он даже диссертацию по медицине защитил. От хирурга ждут не сложных слов, а быстрых действий по спасению тела; священник должен столь же быстро и столь же спасительно вмешаться в болезни духа. А в основе этой службы мгновенного спасения, телесного и духовного, лежит личный опыт, соборное знание и самоотверженная любовь. Та, о которой владыка сказал одной из своих собеседниц: «В чем тайна Троицы?». – «Эта тайна – любовь».
Деятельная, источающая радость, строгая, изредка суровая, но всегда пламенеющая любовь была главным мотивом его жизни и сердцевиной его богословия. Рожденный в семье российского консула и связанный по праву рождения с дореволюционной элитой (дядя его – композитор Скрябин), будущий владыка разделил с эмиграцией первой волны все выпавшие на ее долю бедствия. Аскетическая жизнь в Париже, школа на окраине, где его нещадно били… С французами он разделил путь Сопротивления, активным участником которого осознанно стал. С англичанами, когда его переведут служить в Лондон, он разделит кризисы, экономические, политические, а позже и религиозные, когда Англиканская церковь столкнется с серьезными проблемами. А с теми, кому выпала жизнь в СССР, он разделил принадлежность к гонимой, подневольной и социально опозоренной «красной» Церкви.
И всё это (за исключением лишь раннего периода, когда жизненный путь за него выбирали родители) – по доброй воле, в прямом смысле слова самоотверженно.
Он, со своими разнообразными дарованиями, мог найти себя в европейском мире, но выбрал участь – русского монаха и священника, затем епископа. Потому что так было нужнее, а значит – правильнее. Он мог бы нести свое служение в Русской православной зарубежной церкви или в Константинопольском патриархате и не платить по моральным счетам «советского» епископата. Но когда мать терпит поругание, совесть велит остаться с ней; так он рассуждал. И еще одно соображение: уйди владыка в другую, более «чистую» юрисдикцию, ему никто бы не позволил, пусть редко, пусть с огромными перерывами, бывать на несчастной родине, встречаться с прихожанами, в том числе на закрытых «квартирниках» 1960–1970-х годов. То есть поддерживать тех, кто жизненно нуждался в этих встречах. Заложники не виноваты, что их захватили; если есть возможность пробраться сквозь заслоны и прийти к ним, протянуть руку – следует так поступать.
Не случайно большинство его работ не написаны, а записаны; благодаря многим верным помощникам, все важнейшие беседы владыки были расшифрованы и подготовлены к печати, а след устной речи, ее живой привкус сохранен. Это очень важно. Звучащее слово адресовано тем, кто рядом с тобой, слушает тебя здесь и сейчас, а не тем, кто (может быть) когда-нибудь прочтет написанное тобой. Оно, это слово, настроено на одну волну с собеседником, бьется с ним в унисон, всегда открыто встречному вопросу. В нем как бы есть выемка, дупло, куда можно вложить ответное послание. Оно разрешает и даже благословляет наше встречное недоумение, сомнение, вдохновение. Смысл не приходит в такие тексты в готовом, сложившемся виде, он рождается и формируется в момент произнесения. И читая обработанную расшифровку, мы присутствуем при чуде пульсирующей, непредсказуемо разворачивающейся мысли.