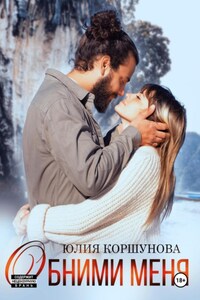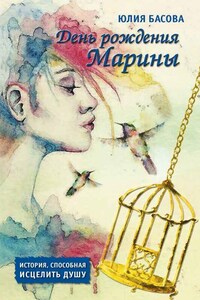Ещё мальчишкой бегал он по этой тропе, вьющейся по самой кромке скал. Здесь, рядом с крепостной стеной на обрыве, можно было смотреть в даль голубого моря и замечать на самом краю горизонта точки плывущих к пристани кораблей.
Радостно и волнительно было видеть легкие парусники керкуры и узкие многовёсельные триеры раньше тех, кто ждал их внизу!
Город расстилался по побережью между скалистых берегов прохладной реки, впадающей в тёплую лазурь южного моря. Отсюда, с верха высокой скалы, можно было ощутить себя свободной птицей и свысока смотреть на дома, на терракотовые крыши терм, таверн, торговых строений. Их светло-серые стены из известняка казались подобными застывшей пене прибоя, и лишь холодок от взгляда вниз напоминал о смертельной опасности, о шаге до пропасти.
Богатый и славный город Олимпос, красавец и гордость Ликийского союза[1], радовал своим гостеприимством заезжих купцов, путешественников, рыбаков и земледельцев из окрестных деревень.
Казалось, так будет всегда… Всегда будут звучать громкая музыка и чувственное пение прекрасных женщин, смех детей и мерный шум щедрого базара.
Но детство прошло и прошла безмятежность.
Мальчик превратился в статного юношу с тёмно-каштановыми вьющимися волосами.
Чёрные брови орлиными крылами сходились к переносице, выбритые скулы и мужественный подбородок несли следы несовершенства бронзовой бритвы, а глаза тёмно-синего цвета, каким бывает море зимой, выражали бесстрашие, свободолюбие и живой, подвижный ум.
Когда Ксанфу – так звали нашего героя – исполнилось двадцать, на город напали римляне.
Юноша стал одним из немногих, кто сопротивлялся – сбрасывал с крепостной стены огромные камни, пускал меткие стрелы, но город был взят. Вернее, сдан: купцы, хозяева цитадели, посчитав, что покровительство сильного лучше независимости слабого, первой же ночью открыли ворота врагу.
Тех, кто противился им силой оружия, римляне решили демонстративно наказать. И вот уже двое солдат подгоняют Ксанфа пиками по каменистой тропинке, вьющейся перед внешней крепостной стеной.
Его вели к верхней площадке с дозорной башенкой, служащей укрытием часовому от непогоды. Сбросить несчастного в шумящее, плещущее у валунов море намеревались именно с неёё.
«Иду, как овца, на убой?» – думал Ксанф, слыша неспешный говор охранников. Взгляд его цеплялся за каждую сосну, растущую на склоне, за каждый с детства ему знакомый валун или колючий куст дикой ежевики. «Это последние мгновения моей жизни? Нет! Нет —я буду бороться!»
Он замер. В тот же момент пика конвоира больно кольнула под лопатку.
Ксанф повернулся, кивнул на землю под собой и со страдальческим видом произнёс:
– Псссс, псссс, пись-пись-пись! – руки были связаны за спиной, и Ксанф задвигал ими, пытаясь донести до чужеземцев, что потребность справить малую нужду перед смертью, требует избавления от веревки.
Старший по возрасту и званию дупликарий[2], угрюмый вояка с рассечённым подбородком, понял причину заминки и, ухмыльнувшись, развязал узел у пленника.
Во рту другого стража нетерпеливо переползла из угла в угол сорванная травинка.
В этот же момент юноша рывком сбросил путы и припустился бежать – и, что странно, к дозорной башенке, к месту казни! Конвоиры опешили, но, повинуясь инстинкту преследования, бросились в погоню.
Они увидели, как пленник вбежал внутрь каменного строения: тем лучше, ему не уйти, приговор будет неотвратим! Конвоир, что по-моложе, с проклятиями забегает внутрь, дупликарий же остаётся ждать снаружи. Стражника, вбежавшего с яркого солнечного света, встречает абсолютная темнота… а внутри – что за наваждение? – никого!
Но оторопь римлянина длилась недолго: что-то ловкое и цепкое упало ему сверху на плечи. Руки невидимого арестанта вцепились в горло конвоира, влепили его головой в стену. На шум ворвался второй и, тоже ослепнув от темноты, вытащил меч, замахал им наотмашь, намереваясь достать наглого невидимку.