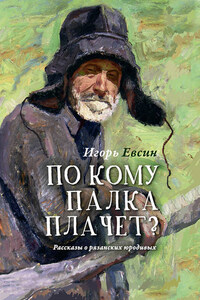В лучах восходящего солнца вспыхнул небосвод и позолотились вершины холмов, окружающих долину. Пастух, гнавший стадо на водопой, поглядел вдаль, туда, где из тумана проступили дома и сады Башни Шаршона, и вздохнул. С древних времен стояло тут маленькое военное поселение, нынче гордо именуемое Кесарией по воле Ирода Великого и на радость римскому правителю. С тех пор, как язычники, пришедшие из-за моря, владычествуют над Иудеей, Кесария строится, богатеет, пирует и манит нестойкую молодежь нечестивыми чужеземными зрелищами.
Поодаль виднелся какой-то темный бугорок, овцы с блеянием обходили его, как поток обтекает валун. Пастух подошел поближе – посмотреть, что это такое, и замер – на пыльной каменистой дороге, что вела в город, ничком лежала женщина. Пышные волосы ее были мокры от крови, камень, пробивший голову, валялся рядом. Пастух наклонился, потрогал ее за плечо, перевернул на спину, попытался нащупать жилу на шее, чтобы почувствовать ток крови. Ему показалось, что он ощущает под пальцами слабые толчки и чувствует еле заметное дыхание – значит, она еще жива. Он не ошибся – ответом ему был чуть слышный стон. Пастух выпрямился и знаками подозвал подпаска. Мальчик резво подбежал и испуганно уставился на раненую. «А ну-ка, – строго сказал ему старший, – нечего попусту глазеть, быстро неси сюда жерди и шкуры». Мальчишка со всех ног пустился выполнять приказание.
Из жердей и шкур пастухи соорудили носилки, положили на них тихонько стонущую женщину и торопливо, насколько могли, направились к колодцу, у которого уже сгрудилось стадо. «Напои овец, а я попытаюсь ей помочь», – приказал старший и начал осторожными, ласковыми движениями смачивать рану на ее голове настоем трав, который всегда носил с собой. Потом взял кусок белой холстины, обтер ее испачканное лицо, поднес к иссохшим губам плошку с водой. Она застонала громче, сделала несколько судорожных глотков и приоткрыла глаза. Пастух пристально вгляделся в ее лицо и вдруг, чуть вздрогнув, отпрянул, будто что-то поразило его. Мальчик заметил это, подошел поближе, заглянул в лицо раненой.
– Молодая совсем, – сказал он, покачивая головой. – Красивая! Кто ж это ее так?
– Не нашего ума дело, – отвечал старший. – Может быть, она сама споткнулась ночью на дороге, и ударилась о камень.
– Скажешь тоже, – возразил младший, – если бы она сама споткнулась, рана была бы спереди или сбоку. А ее ударили в затылок. Кто-то,видать, ее подстерег и напал сзади, разбил голову. А почему ты так странно на нее смотришь, будто знаешь ее?
– Я вижу, – с деланной строгостью сказал старший пастух, – что это ты очень много знаешь. И как человек падает, и кто как на кого смотрит. А знать ты должен пока что совсем другую науку – как следить за овцами, чтобы они были сыты, вовремя напоены и здоровы.
Подпасок слегка обиделся и отошел в сторону, а пастух продолжал обихаживать женщину. Та закрыла глаза, бессильно откинулась на носилках и вновь впала в беспамятство.
* * *
Мерула, пыхтя и отдуваясь, шагал по шумным припортовым улочкам Кесарии. Он спешил навстречу торговому судну, груженному его товаром – тканями и иберийским вином. Надо было проследить за выгрузкой, рассчитаться с капитаном, отправить товар на склад. Торговля требует придирчивого хозяйского догляда. Чуть ослабишь хватку – потеряешь прибыль и навлечешь на себя неудовольствие патрона. Не желая опоздать, Мерула торопился, бесцеремонно толкал прохожих, бил по рукам лавочников, норовящих схватить римлянина за одежду и затащить в свою лавчонку, набитую жалким хламом. Солнце пекло так, будто сам лучезарный Феб, прогневавшись на смертных, пожелал изжарить их живьем. Да и сам Мерула за последние несколько лет, проведенных в беспечной праздничной Кесарии, потолстел, обзавелся сытым брюшком, потяжелел в шаге, утратил резвость – потому-то и стало трудно ходить, особенно под беспощадным солнцем Иудеи.