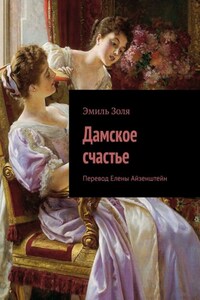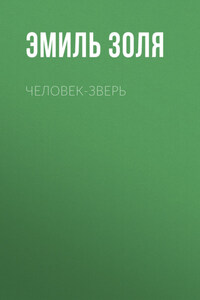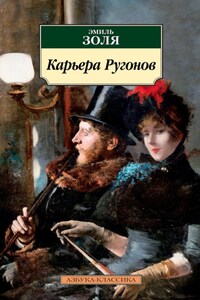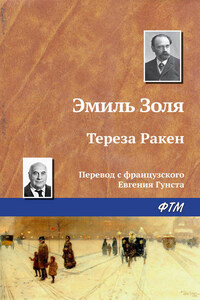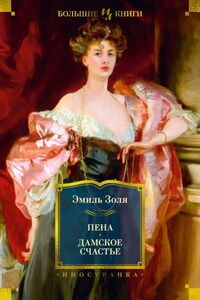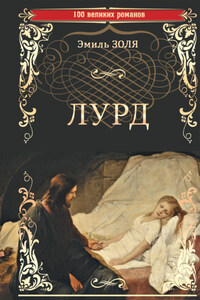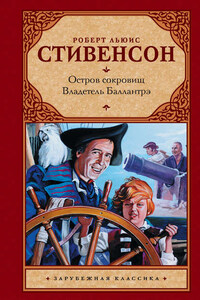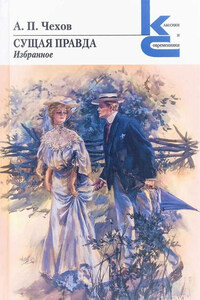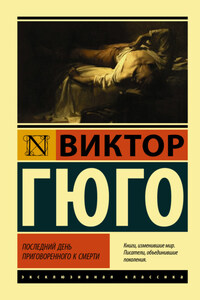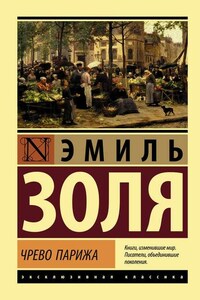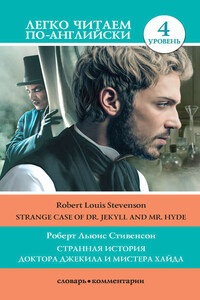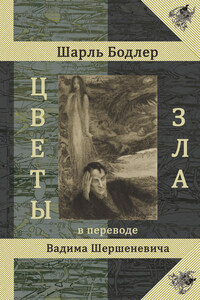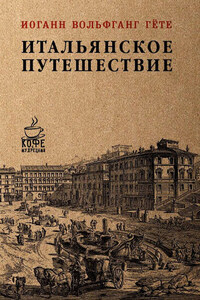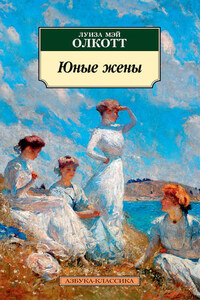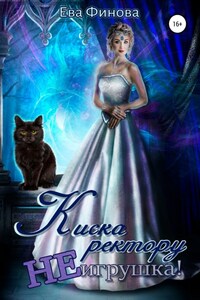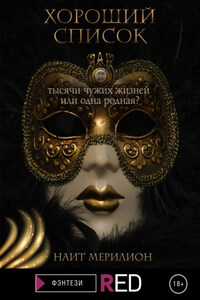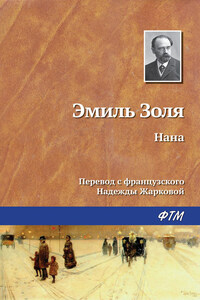
Нана
Эмиль Золя (1840–1902) – знаменитый французский романист, творчество которого ознаменовало новый этап развития реализма. Девятый роман эпопеи «Ругон-Маккары» рассказывает историю парижской куртизанки Нана. Главная героиня груба и порочна, но притягивает мужчин, заставляя их совершать безумные поступки. Богатые и бедные, женатые и одинокие – всех ждет одна судьба. В некоторых странах роман подвергся преследованиям цензуры как «оскорбляющий общественную нравственность»; в Дании и Англии он был первоначально запрещен.
| Жанры: | Литература 19 века, Зарубежная классика |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2019 |
Для того чтобы лучше понять любое литературное произведение, необходимо учитывать две вещи. Во-первых, мировоззрение автора, во-вторых, исторический контекст описываемых событий. Это позволит более полно понять логику сюжета и образы персонажей. В учебнике по истории европейской литературы под авторством Гиленсона Б. А. указывается следующее: «Золя исходит из того, что человек — пассивный продукт социума и подчинен своей биологической природе. Автор разделяет теорию наследственности, получившую распространение благодаря трудам итальянского психиатра Ч. Ламброзо и «Трактату по естественной наследственности» П. Люка».
Золя считал необходимым «овладеть механизмом явлений человеческой жизни, добраться до малейших колесиков интеллекта и чувств человека, которые физиология объяснит впоследствии, показать, как влияют на него наследственность и окружающая обстановка, затем нарисовать человека, живущего в социальной среде, которую он сам создал, которую повседневно изменяет, в свою очередь, подвергаясь в ней непрерывным изменениям».
Таким образом, все герои романов Золя — это, с одной стороны, люди своей эпохи, сформированные под влиянием той среды, в которой им довелось родиться, с другой — заложники своей собственной наследственности, которая во многом определяет их психоэмоциональный и нравственный облик.
События, описываемые в романе «Нана» происходят непосредственно перед Франко-Прусской войной 1870-1871 года. Мы видим совершенно разложившиеся в нравственном отношении высшее парижское общество. Мало кто из них озабочен судьбой страны (хотя это — прерогатива как раз правящего класса), они совершенно не разбираются в политике (их разговоры на эту тему по своей содержательности вполне сопоставимы с аналогичными разговорами куртизанок у смертного одра главной героини ).
За исключением барона Штайнера, никто из них не способен на серьезные коммерческие предприятия, хотя и тот, по словам Золя, — «пройдоха», который «обирал Париж», явно пользовался отнюдь не самыми честными методами в ведении дел. И это при том, что события разворачиваются во второй половине XIX века, время активного развития производства и торговых отношений, в том числе международных.
Все герои, как главные, так и второстепенные, с готовностью и каким-то неистовством растрачивают целые состояния, веками накапливавшиеся в их семьях, на продажных женщин, кутежи, ставки в казино и на скачках. Своеобразным символом гибнущей аристократии является семейство Мюффа. Католическая строгость и набожность, культивируемая в их семье, уже давно лишена своих духовных основ. Они живут в безрадостьи, холодности и безразличии друг к другу (это относится как к супружеским отношениям, так и к отношениям между родителями и детьми). Чего стоит образ их своеобразного духовника г-на Вено «слащавого, толстого старичка с испорченными зубами» (эта характеристика, постоянно повторяемая Золя показывает гнилость и «испорченность» существующих духовных основ, сохранившихся лишь в виде показной благопристойности). В то же время эти люди абсолютно равнодушны к своему народу, чаще всего обреченному на нищету и пожизненный безрадостный тяжелый труд, наравне со своим господами погрязающим в пьянстве и грязном разврате.
Нана — это явление исключительно своей эпохи. Католические нормы ещё сильны в том обществе. И представительницы аристократии, стесненные ими, в большинстве своем сохраняют приличествующую покорность и холодность в отношении своих мужей, в то время как последние ищут развлечений и отдохновения в объятьях более раскрепощенных и чувственных дам полусвета. Ни в каких других обстоятельствах, мужчины не стали бы выбрасывать целые состоянии за возможность хотя бы присутствовать в обществе женщин, подобных Нана. Именно скупая холодность со стороны матери и жены и противоестественная строгость воспитания может довести до крайности, в которой оказался граф Мюффа, человек немалого благосостояния, пользующийся уважением в обществе и приближенный к императорской семье.
В то же время, проблематика романа куда глубже, чем недостатки внутрисемейных отношений. Нищета, усугубляемая массовым алкоголизмом, всевозможными болезнями и развратом, приводила к вырождению самой нации. Главная героиня романа — своеобразное олицетворение этих пагубных процессов. Половая невоздержанность и примитивность, отчасти выражающаяся в виде детской непосредственности — есть не что иное, как последствия потомственного алкоголизма предков Нана. И, что показательно, именно эти качества привели её на подмостки театра и, фактически, в высшее общество (несмотря на то, что её не принимали в домах знати, она вольно или невольно принимала самое активное участие в жизни многих её представителей).
Кстати, Эмиль Золя отличается весьма щепетильным отношением к слову. В его произведениях нет случайных описаний, символов и определений. Именно поэтому роман, целиком и полностью посвященный описанию жизни куртизанки, почти лишен откровенных сцен или физиологических подробностей. Они просто не нужны с точки зрения развития сюжета или раскрытия образа персонажей. Поэтому весьма интересными представляются следующие два эпизода.
Первый, когда на вечере у Нана «тщедушный» (снова говорящая характеристика, на сей раз, подчеркивающая вырождение) блондин, носивший «одно из самых громких имен Франции» выливает шампанское в рояль. Рояль — это своеобразное олицетворение искусства, чего-то тонкого и возвышенного, являющегося достоянием поколений. Такое своеобразное надругательство над этим предметом тем более со стороны представителя высшей аристократии говорит о многом.
Второй эпизод, который, видимо, является ключевым с точки зрения понимания всего романа,— это постановка в театре Борднава. Роль Венеры, богини Любви, исполняется проституткой. Все остальные боги показаны паяцами, похотливыми обманщиками, ревнивцами. Эта постановка — как отражение нравов общества: здесь попирается и извращается все высшее и божественное, а любовь сводится к пошлым адюльтерам и очень часто является предметом торга.
Поэтому вполне справедливо, что куртизанка Нана, явившаяся свету в результате общего морального разложения общества, принесет этому обществу окончательную погибель. Золя сравнивает её с «золотой мухой»:
«Она выросла в предместье, была детищем парижской улицы; рослая, красивая, с прекрасным телом, точно растение, возросшее на жирной, удобренной почве, она мстила за породивших ее нищих и обездоленных. Нравственное разложение низов проникало через нее в высшее общество и, в свою очередь, разлагало его.»
Не обходит Золя своим вниманием и "женский вопрос". Очень интересно с этой точки зрения отношение к Нана со стороны Розы Миньон. Казалось бы, у этих двух женщин было не мало поводов для вражды: раз за разом Нана отнимала у Розы её любовников, забрала её роль в постановке «Маленькой герцогини». И вместе с тем, последняя проявила искреннюю заботу о тяжело больной женщине, рискуя самой подхватить смертельную заразу. Всё дело в том, что с точки зрения Розы, Нана сделала то, что было не по силам многим её предшественницам. Она поставила на колени сам мужской род, веками попиравший достоинство и честь многих женщин, обреченных на убогий выбор: между безрадостным замужеством, скудной долей монахини и унизительной и небезопасной торговлей своим телом. В этом отношении, весьма показательно то, что у мертвого тела Нана собираются только женщины.
Смерть Нана логична и предрекаема. Она олицетворяет собой гибель целого общества: не случайно она умерла именно в день перед началом войной с Германией, результатом которой станет захват Парижа и распад второй Французской империи. Между тем, Золя не даёт какие-либо пути решения поднимаемых им проблем. Он писал, что не желает, подобно Бальзаку, решать, «каким должен быть строй человеческой жизни, а также быть политиком, философом, моралистом». Именно поэтому развязка социального конфликта наступает стихийно, не в результате чьего-то правильного волевого решения, а как своеобразный «прорыв» уродливого общественного гнойника, как итог определенного этапа развития (или скорее — деградации) социума с неизбежными и значимыми изменениями впоследствии.