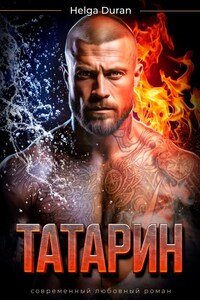Холодный ветер жёстко трепал верхушки чёрных голых деревьев, а
жёсткая снежная крупа жалила ледяными ударами, била в лицо,
ослепляла опухшие от слёз глаза девушки, бредущей по обледенелой
земляной дороге в одном ботинке из чёрного кожзама. Первый
ноябрьский снег был не красивым и пушистым, а именно таким, из
ледяных комочков, больно бьющих по телу, впрочем, не чувствующему
этой боли.
Девушка, что шла по дороге, походила на сумасшедшую, она
шаталась, то ли от ветра, то ли еще от чего. И странное это было
зрелище, странное и пугающее. На улице один из первых заморозков,
ледяной ветер, вечерняя темнота наползает на поля, а по дороге
между двумя полями идёт она — молодая, стройная и абсолютно
потерянная девушка. Из одежды на ней только шерстяной юбочный
костюм, юбка которого немного порвана внизу, а на ноге один
ботинок. Причем, на босой ноге. Колготок на девушке не было, и ее
лодыжки уже отдавали синевой от холода. Но самое пугающее было в
том, как босой ступнёй девушка шла по замёрзшей колее, наступала на
острые комочки земли и абсолютно не замечала боли.
Второй ботинок, осенняя куртка и даже старая сумка с пришитой
ручкой остались валяться где-то там, на повороте в деревню, где
выбросили девушку из кабины фуры два дальнобойщика. Вещи полетели
следом за ней, но девушка их не подобрала. Она так и пошла в одном
ботинке, по дороге знакомой с детства.
Двадцать километров. Всего двадцать километров от города до
этого поворота, и так часто Юля добиралась сюда автостопом.
Автобусы ходили редко, их не дождёшься. И когда Юля была ещё
маленькой, она привыкла к тому, что мама, стоя на обочине,
поднимала руку, это называлось «голосовать». Останавливались машины
нечасто, но всё же останавливались. Юлина мама быстро подбегала,
распахивала дверцу и, просунув голову в салон, спрашивала:
— Сколько возьмёшь до поворота на Ивановку?
Когда водитель называл цену, не устраивающую Юлину мать, она
возмущалась, Она это умела.
—Да тут всего-то двадцать километров, с ума что ли сошел? А я в
автобусе в пять раз меньше отдам!
Так было всегда. Юля так привыкла, что ее мама, сторговавшись о
цене, тащила дочку в салон чужого автомобиля. И очень быстро они
оказывались возле знакомого съезда. До Ивановки шли пешком. Юля
подросла и начала бывать в городе одна, без мамы. Голосовать она не
любила, чаще стояла, дожидаясь автобуса. Сегодня автобус
пропустила, вот и пришлось ей махать рукой на обочине, как часто
делали все деревенские.
Она подняла руку перед легковушкой отечественного производства,
но лада, с семейной парой в салоне, промчалась мимо. Женщина на
пассажирском сиденье даже поморщилась в сторону Юли. За легковушкой
ехала фура. Юля руку опустила, а фура скрипя тормозами уже
останавливалась.
Впрочем, фура так фура! Широкоплечий мужик в полосатой тельняшке
с красным обветренным лицом подмигнул, забравшейся на подножку
Юле.
— Залазь, давай, матрешка. Домчу с вечерком.
На вопрос Юли, сколько возьмет за проезд, водитель
разулыбался.
— Не боись, денег не возьму. Все равно в ту сторону еду, какая
мне разница. Хоть веселее будет.
Юля смело забралась в кабину. Она людей не боялась, не боялась
ездить автостопом. Всю свою сознательную жизнь она с мамой так
добиралась до Ивановки. Огромный большегруз, пыхтя и выбрасывая
струйки дыма, тронулся с места.
—Да ты шапочку-то сними, и куртку можешь расстегнуть, —
ухмылялся водитель. — У меня в кабине тепло.
Юля раздеваться не собиралась. Зачем? Тут всего двадцать
километров. Ей и с водителем общаться не хотелось, она разговор из
вежливости поддерживала. Взвизгнула от страха, когда на плечо легла
тяжелая, как свинец, ладонь.
— А кто это у нас тут такой?