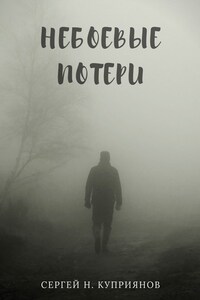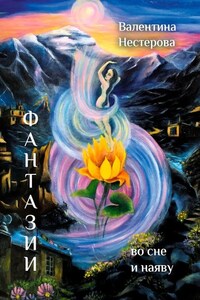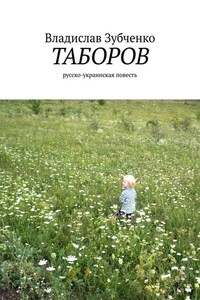– Ну всё, поехали! – крикнул завсклада Василий Николаевич, – Не убивайся, мать, чай, не на войну едет, в армию!
Вовка удобней подмостил под собой вещмешок. «Газон» дёрнулся, затрясся, нехотя тронулся.
«Сцепление так и не сделал», – хмыкнул он про себя.
Мать осталась на обочине, подняла руку, чтобы перекрестить. Вовка смутился.
– Ладно, мам, иди домой. Напишу, как приеду, – он дополнил сказанное, жестом глухонемых, коротким и лаконичным.
С самого детства он знал этот язык, язык своей матери, из-за которого его дразнили, над которым смеялись. Но который был понятен им обоим.
Он изредка поднимал голову, глядя на удаляющуюся фигуру матери, пока грузовик не свернул на главную. Когда она скрылась, достал из кармана пачку «Примы», закурил. Не любил курить при матери. Не по себе как—то.
Вот и мост. Проехали указатель «Липовцы», с перечеркнутым названием, как перечеркнутой его гражданской, прошлой жизнью. И так «засиделся». Одногодки уже из армии пришли, а он только собрался. Конечно, можно было бы попросить, похлопотать. Начальник автобазы, где Вовка работал сразу после школы, его ценил, мог и отмазать, но сам проситься не стал, да и матери сказал, чтоб не ходила.
До Уссурийска чуть больше часа дороги. Вовка перелез ближе к будке, там трясло меньше. Попытался уснуть. Как ни хотел казаться спокойным и уверенным перед матерью, тревога перед неизвестностью крутила внутри до тошноты. Он только закрывал глаза, но одна и та же картина всё время прокручивалась, как заевшая пластинка: мать на обочине, через мгновение скрывается за поворотом.
Очнулся от постороннего шума. Сам не заметил, как провалился в сон. Посмотрел – Уссурийск. Сердце забилось, предчувствуя скорый конец поездки. Грузовик остановился.
– Эй! Воин! – Василий Николаевич выглядывал над бортом, встав на цыпочки, – Приехали, Володька! Ты тут пешком дойдешь, а то у меня дел до вечера.
Вовка спрыгнул с кузова.
– Спасибо, Николаич!
– Да что там… Ты там, давай…, – крепко пожал он руку, хлопнул по плечу, – служи. Себя в обиду не давай и других не обижай… В общем… Мужик без армии, что пиво безалкогольное – ни крепости, ни вкуса. Так… вода…
Василий Николаевич ещё раз хлопнул Вовку по плечу.
В «учебку» Вовка попал недалеко от дома, в Князе—Волконское под Хабаровском. Радовался, что в родных местах. Да и служба оказалась не такой страшной, как рассказывали. Земляков много. Об одном Вовка жалел, что не послушался мать, когда та внушала ему, чтобы на шофёра выучился: «Работаешь на автобазе, гайки крутишь, а был бы шофёром и деньги другие и не в мазуте». Как казалось Вовке, водителей не так гоняли в «учебке». Те, всё больше с техникой, а технику он любил. Хлебом не корми, дай чего—нибудь разобрать.
Написал два письма. На одно ответ пришел, а вместо второго мать приехала уже на присягу. Смотрела на него с какой-то жалостью, будто чувствовала что—то. Вовка от этого смущался, злился, не подозревая, что видятся они в последний раз.
Со средины декабря девяносто четвертого Вовка впервые услышал слово «Чечня». То в разговорах, то по телевизору – «Чечня», «Чечня». Слово какое-то было… ругательное, грязное. Он помнил из литературы про черкесов, Казбича, но так давно и далеко это было. Некоторых сержантов, говорили, послали в командировку. Замполит рассказывал, что там беспорядки, хотели отделиться. Вовка слушал и не понимал, что в том плохого – Россия-то, вона какая, что с той Чечни… и пусть отделяются. Меньше всяких чурок будет.
Однажды смотрели в расположении телевизор, а там Ельцин выступал и показывал, как за каждым боевиком наш снайпер наблюдает и если что сразу уничтожит. Солдаты загудели после этого, что, мол, за бред несёт? А Вовка поверил. Ну что там той Чечни? А Россия—то… ого—го! Что салабоны? Президент знает, что говорит.