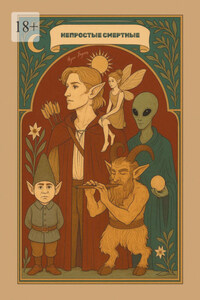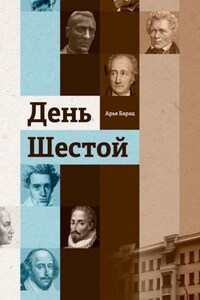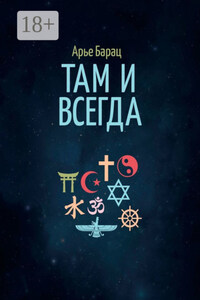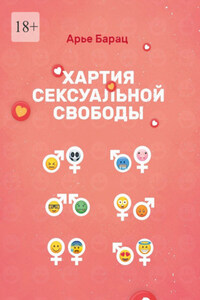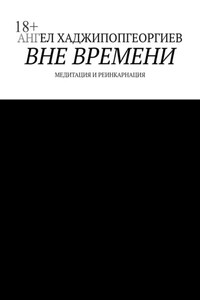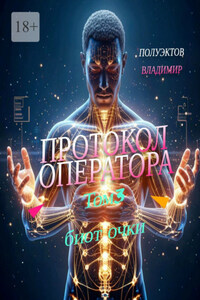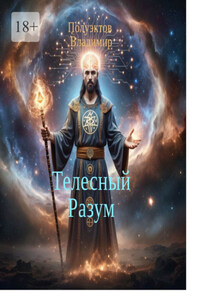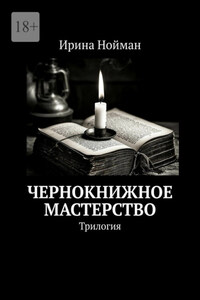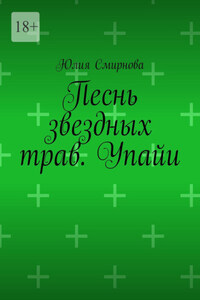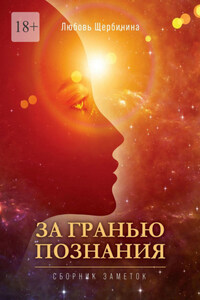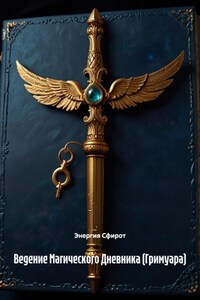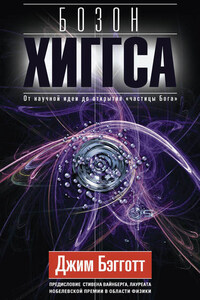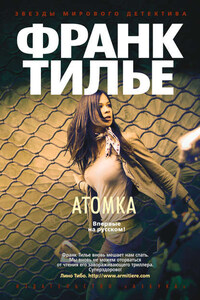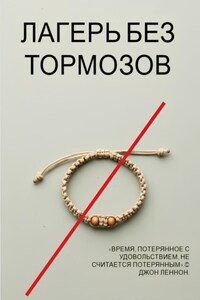Начало ХVII века ознаменовалось радикальной переменой в истории человеческого духа, переменой, которую можно было бы назвать повзрослением.
С глубокой древности всякий человек отождествлял себя со своей традицией. На стыке ХVI и ХVII веков он впервые от нее отстранился, впервые испытал необходимость ее авторизировать, зажить на свой страх и риск.
Первые симптомы созревания, как и следовало ожидать, проявились в литературе, в героях Шекспира (1564—1616) и Сервантеса (1547—1616).
«Порвалась связь времен», – провозгласил шекспировский Гамлет (1601), осознавший, что истинное и ложное преломляется отныне в его индивидуальном восприятии. Что же касается Дон Кихота (1604), то после него ни один идеалист уже не может не опасаться собственной неадекватности.
Примечательно и другое, неожиданно выяснилось, что «высокие идеалы», идеалы служения, идеалы рыцарства были странным образом увязаны с миром, который внезапно стал казаться воображаемым, сказочным миром, миром иллюзий.
Роман о «хитроумном идальго» пронизан коллизией между «фольклором», которым был насыщен классический рыцарский роман, и новым критическим духом. Пламенная вера рыцаря печального образа в волшебников и исходящие от них наваждения осмеивается в каждой сцене романа.
А ведь «науки», казалось бы, представляющей основание для такого осмеяния, в ту пору еще не существовало!
Неудивительно, что именно тогда она и стала зарождаться.
Действительно, в эти же годы, в годы повзросления, Галилей (1564—1642) начал разрабатывать новую механику, основы которой подытожил в труде «Диалог о двух главнейших системах мира» (1632).
В свою очередь в 1637 году Декарт (1596—1650) издал трактат «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках». В этом труде философ заложил основу логики, обеспечивающей новую науку, – картезианской логики, исходящей из субъект-объектной различенности.
Оказалось, что научный метод подразумевает философское видение, в основе которого лежит дуализм, лежит антиномическая расщепленность бытия на мыслящую и протяженную субстанции.
Нет, не случайно в ту пору из поля умного зрения стали выпадать черти, драконы и феи, им не оставалось места в реальности, которую повзрослевший человеческий ум стал уверенно сводить к математике и логике.
Бог тоже потеснился, превратился в Часовщика, не прикасающегося к однажды созданному Им изделию.
Бог продолжал фигурировать как скрывающаяся в агностическом тумане идея, все еще оправдывающая существование религий, но для «фольклора», для «чуда» места в новом «научном» мире не оставалось.
Наука, по остроумному определению Эйнштейна, представляет собой «бегство от чуда».
В. С. Библер выявляет следующие вехи этого интеллектуального марафона: «Антиномии парадоксализировали наличную картину мира и провоцировали первый опыт «изгнания метафизики» из классической (только что «зарожденной») механики. Первое «бегство от чуда» (Ньютон – Лагранж) вновь восстановило порядок в мире за счет жесткого (невозможного для Галилея) расчленения динамического и кинематического аспектов (развитие аналитической механики).
Но это «бегство от чуда» означало одновременно новое накопление парадоксов в сфере философской рефлексии, в сфере той антилогики, от которой избавилась позитивная наука, сослав весь «силовой аспект» в метафизику.
«Силы», жестко противопоставленные «действиям», получили статут «вещей в себе» и «субъектов в себе», совершенно непроницаемых для феноменологического знания. Профессиональным выражением новой философской рефлексии классического разума была антиномическая диалектика Канта и спекулятивная диалектика Гегеля…