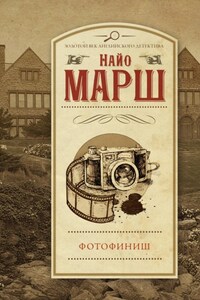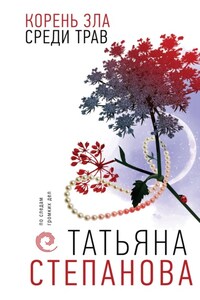День убийства
Мой муж Мэттью умер не по сезону холодным августовским днем во время ужина. Мы были вместе чуть больше десяти лет, женаты – пять из них, и да, мы любили друг друга. Но любовь меняется со временем, и, должен признаться, в те последние мгновения, когда я знал, что он умирает, на фоне ужаса, крови и шока моя любовь к нему была не такой абсолютной, как можно было бы ожидать. Даже после всего, что произошло. Когда мы женились, мысль о том, чтобы потерять его, вызвала бы во мне волну опустошения. Подобное не укладывалось в голове. И я думал, что так будет всегда. Потребовалось случиться худшему, чтобы я понял, что не всегда все происходит так, как мы думаем.
Больше в моем сознании отложилось не то, как нож входил в плоть, и не ужасный звук, который издал Мэттью, когда осознал, что произошло. Больше всего мне запомнилось, как он порывался заговорить. Он пытался что-то сказать, что-то явно очень важное для него. А я не мог разобрать слов. У него не получалось произнести их достаточно внятно, чтобы передать смысл. Я даже не рисковал предположить. Возможно, там было слово «после», хотя я не уверен. И эта неизвестность, это бессилие породили вопросы и размышления о том, что же он хотел сказать мне в свои последние секунды.
Рейчел с ножом в руке спокойно сидела на стуле и звонила в полицию. Тем вечером ее даже не должно было быть у нас. Но я привык к ее отличительной черте: всегда находить способ оказаться в местах, ситуациях и мероприятиях, которые обошлись бы и без нее. Всегда посторонняя. Однако не сегодня. Сегодня ей принадлежала главная роль.
Прибывшие полицейские арестовали ее на месте. Она ведь призналась. Она сидела, держа нож, в глазах блестели слезы.
– Это сделала я, – тихо, но уверенно сказала она. – Я его убила.
Они уже собирались увести ее, когда младший из двух полицейских задал ей вопрос. Вопрос на миллион долларов, как говорится.
– Почему вы убили его, Рейчел?
Подозреваю, что старший полицейский хотел бы сохранить подобное для допросной, но все равно повернулся послушать ответ. Но лицо Рейчел оставалось невозмутимым. Лишь на мгновение его спокойную поверхность потревожила рябь эмоции. Потом она просто покачала головой и опустила ее.
– Я не могу, – сказала она и больше не произнесла ни слова.
Ее увели, чтобы поместить под стражу, а еще один полицейский остался, чтобы отвезти нас с Титусом в участок в машине с мигалками. Мне пришлось уговаривать Титуса выйти из комнаты. Он лежал на кровати, завернувшись в одеяла и отгородившись от ужаса окружающего мира наушниками. Перед собой он держал старый памятный альбом. В детстве он делал такие на каждых школьных каникулах. По-видимому, так делала сестра Мэттью. Он как-то рассказывал мне об этом, когда мы смотрели, как маленький Титус клеит распечатанные фотографии. Я не понял, радовался ли он увлечению мальчика или был обеспокоен. И меня нервировало, что сейчас, после сцены насилия в кухне, Титус потянулся к альбому, заполненному фотографиями нашей счастливой семьи.
– Нам надо ехать, – мягко сказал я. – Полиция здесь. Надо поехать в участок, чтобы они побеседовали с нами.