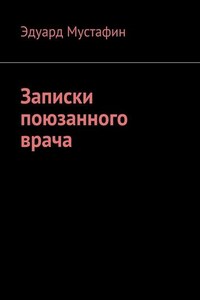Владимир Беляев – царскосел, и мифология места во многом определяет его самопонимание, акцентируя ирреальность пространства и смещенность культурных пластов: «Мой город – город-выдумка, город-памятник <…> и все его богатство лучшим образом обедняется, открывая возможность для повседневной детерриторизации, для переконструирования, создания своих пространств»[1].
Закономерно, что в построении генеалогий, всегда более или менее гадательном, важнейшие линии связываются критиками с «петербургской поэтикой» в ее алогическом изводе (И. Анненский)[2], с поздним авангардом (А. Введенский)[3] и медитативно-созерцательной поэзией «второй культуры» (М. Айзенберг)[4]. Впрочем, в «сновидной» реальности этой лирики «читатель чувствует себя сбитым с толку»[5], что ставит под вопрос слишком очевидные параллели. Предметное у В. Беляева опосредуется умозрительным, близкие культурные контексты – далекими, и чтение его текстов предполагает учет не только ближайшей литературной традиции. В этой поэзии отмечается «уход от проблематизации в архетип»; стремление превратить «поэзию в психоаналитическую практику» и одновременно – движение «в сферу чистого внимания, отслеживающего само себя»[6].
Тем примечательней, что герметическая поэтическая работа, ориентированная не столько на резонирование с другими голосами, сколько на обособление и инволюцию, хорошо вписана в поэтический контекст, доказательство чему – и публикации книг в разных поэтических сериях (2013, 2015)[7], и широкое участие в фестивальном движении, и получение премии «Дебют», оцениваемой нередко как мейнстримная, оставляющая за бортом наиболее радикальные практики (2015).
Новая книга В. Беляева – репрезентативное избранное, включающее как уже публиковавшиеся, так и новые тексты. По нему вполне можно составить представление и о поэте, и о его времени, поскольку эти тексты несут в себе стихию общего и выражают универсальный опыт. Впрочем, даже сосредоточенное вслушивание не создает здесь ощущения разгаданности.
Слово здесь возникает из обращенного к субъекту вызова или сложно формулируемого вопроса, из несоответствия явленного и сущностного: «окрестность ждала / сына, ключа, открытия». Герменевтическая «непрозрачность» обнаруживает вариативность привычных связей и смыслов, «фактурность» означивания, когда желание осваивает мир, «не попадая в разломы значений, / в мистический переплет, в зазубрины слов».
Истолкование смысловых разрывов с помощью метафор осязания заставляет и саму ситуацию вопрошания воспринимать в пространственном ключе – как появление «зазоров» в ткани бытия: «лес летает – гул стоит / будто воздух там разрыт». Этот «поиск дверей поезд дверей» делает очевидным пластичность «ландшафта», способного выворачиваться и растягиваться.
Способность ориентироваться в мире предполагает движение сквозь себя самого, «зазор для человека» и «окошко в теле» взаимно соотнесены: «тело открывается / дверь горит / огнь в очереди стоит». Возможность «прорасти сквозь себя» или натолкнуться на «стену внутри» не задана изначально и определяется степенью внутренней собранности, готовностью вслушиваться в мир.
Перспективы роста и самоизменения в стихах В. Беляева часто связаны с «гулом» и «светом». Звук связывает предметы, выявляет их сорасположенность и способность к резонансу: «гул собирает окрестность», «воскресенье – голос – птичий куст», «язык скрипов». Свет – «остролистый», «океанический», «реликтовый» – придает вещам ауру ирреальности: «свет начинается и распадается на стороны», «все равно я люблю этот свет беспредметный».