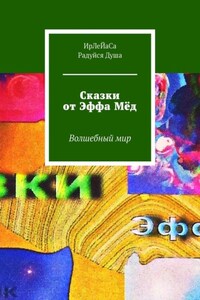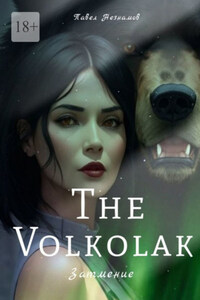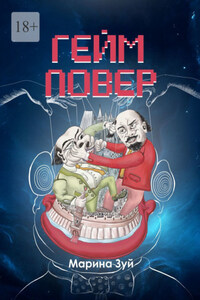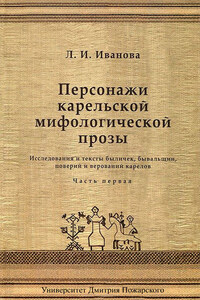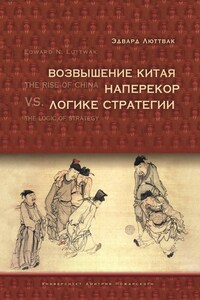НИКИТКИ, ИЛИ ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ
Иерей Никитин кормил свои странные глаголы, как Пастернак кормил стаю клавиш – с руки. Но Пастернак мог это делать в любое время. А что? Подошёл к роялю, открыл крышку, все в сборе – и чёрные, и белые. Пожалуйста!
С глаголами было сложнее. Они прилетали, когда хотели, иерейские желания и потуги их не интересовали. Приходилось смиряться и терпеливо нести бремя ожидания.
Питались глаголы исключительно пустотой бумажных листов. Экран монитора не прельщал, для них это было чем-то вроде современной магазинной еды с длинным списком консервантов. Потому иерей всегда носил блокнот и карандаш.
Обычно, покружив вокруг иерейского темени, глаголы опускались на ладонь. Поглаживая нежные буковки, Никитин едва касался граней и окружностей. Затем доставал карандаш, по которому глаголы, как по мостику, перебирались на бумагу. Спеша и толкаясь, они накидывались на светлые лакуны, оставляя тёмные следы. Крошился грифель, гласные наползали на согласные, ершилась пунктуация и пузырилась орфография, но Никитина это не смущало. Он знал: основной труд впереди, сейчас главное – накормить гостей.
Насытившись, глаголы растворялись так же быстро, как и появлялись. Никитин убирал сырые листы в стол просушиться и радостно выдыхал.
Через некоторое время он извлекал записанное, и тут-то разворачивались баталии. Слова не хотели сдвигаться с места, тем более вычёркиваться. Фразы считали себя неповторимыми и претендовали как минимум на жемчуг. Иерей продирался сквозь вопли синонимов, ворчание идиом и брюзжание стилистики. А когда переносил отшлифованное на экран, всё начиналось по новой.
Стуча по клавиатуре, Никитин вспоминал Пастернака. «Ну что, Борис Леонидович, как там ваши питомцы? Привлекают любовь пространства? Бороздят, поди, духовные просторы. Крылья-то не обхватишь. Покажете?»
– Покажу, покажу, – улыбаясь в небесное оконце, отвечал Пастернак, оглядывая крохотных иерейских птах.
Но Никитин, конечно, не слышал поэта. Он выводил свои «Никитки» – строка за строкой – чёрным по белому.
Жили-были. Инженер
Жил-был инженер. Он любил играть на баяне. Любил, но не умел. Терзал инструмент нещадно – немного по вечерам и много по выходным.
Этажом ниже жил поэт. Он умел слагать не слагаемое, строить конструкции и оттачивать детали. Но всякий раз, когда его слуха достигали звуки баяна, дактили слетали с педалей, выбивало ямбы, а дольники не хотели делиться.
Надоела эта музыка поэту. Поднялся он к соседу, позвонил раза два. Инженер открыл. На груди баян, лицо красное.
– Знаете что, – начал без предисловий поэт (он не любил предисловия), – вы своим, так сказать, музицированием мешаете творческому процессу. Собственно говоря, при исполнении, с вашего позволения, мелодий, моя муза страшно пугается и оставляет лабораторию слова и звука. Все мои стихотворные построения рассыпаются, как карточный домик. О! Неожиданный образ! – воскликнул поэт. Вынул из шёлкового японского халата записную книжку, ручку, размашисто набросал «стихи распадались, как карточный домик», сунул поэтические принадлежности обратно в карман и продолжил:
– Прошу вас, любезный, не занимайтесь тем, что вам не дано. Вы лишаете меня и мир свершений в области высокого искусства поэзии.
Инженер потоптался, как провинившийся школьник, вздохнул и ответил:
– Но я не могу не играть. Музыка – она – как дыхание, как огонь в печи… Да, и насчёт музы. Пойдёмте.
На кухне на обшарпанном табурете сидела юная особа. Кудри украшены венком живых цветов, лёгкая туника, в руках лира.