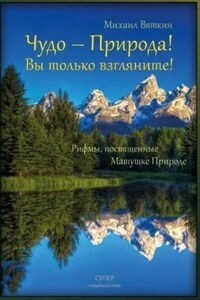Вычурно разукрашенная ваза; она расколота пополам, но половины ее соединены и скреплены старой, перегнивающей веревкой. В вазе пустили побеги лесные фиалки. Нарядная, массивная античная колонна; она брошена на землю и разбита. Обломки колонны покрыты дикими полевыми цветами.
Лет десять тому назад подобного рода рисунки и виньетки неизменно красовались на заглавных листах и страницах западно-европейских художественных журналов, взявших под свое покровительство «новое искусство», которое тогда праздновало свой Sturm und Drang-periode. Это были боевые эмблемы штурм-унд-дренгеров. Помощью их теоретики нарождавшегося модернизма старались передать, в рельефной и наглядной форме, сущность «новых веяний». Старое искусство, говорили избранные ими эмблемы, представляло собой культ манерности, ненужных и вычурных орнаментов и прикрас, и оно умирает, противоречия духу современности: освобождение от всяких условностей, простота стиля и выполнения – вот основное требование, выставляемое молодым искусством, идущем ему на смену.
Это требование, действительно, являлось очень характерным для модернизма, действительно, проводило резкую демаркационную линию между «старым» и «новым». И на нем сходились довольно многочисленные секты и школы художников разных профессий, – художников, ставших под модернистское знамя. «Символы веры» всех этих сект и школ заключают в себе проповедь «естественности», полного отрешения от навязанных извне «правил», проповедь близости к «природе». Правда, образцы так называемого «декадентского» творчества затемняли зачастую в представлении широких слоев публики мотив «простоты», выдвинутый сторонниками «art nouveau». Но и те, кто передавал на полотне или бумаге, в звуках или на камне наиболее утонченные переживания души «современного человека», несомненно, вдохновлялись названным мотивом.
Свое наиболее решительное выражение последний получил в антитезе природы и цивилизации, в протесте против новейшего индустриального развития, в идеализации жизни социальных групп, знающих лишь примитивное хозяйство, лишь примитивные орудия и способы производства. И при этом, в качестве главного источника бедствий существующего строя выставлялась машина. Машина, доказывали модернисты, делает работу бездушной, убивает всякую поэзию и всякое изящество жизни. Проповедовалось возвращение к ремеслу, к ручному труду. Модным героем художественной литературы был объявлен романтически настроенный «аристократ духа», предающий анафеме крупные городские центры, с их богатством и их нищетой, с промышленными магнатами, с их демосом, с их пролетариатом, чувствующий себя «одиноким во всем мире», бегущий или стремящийся бежать в «пустыню», на лоно первобытной природы, в царство незатронутых культурой, идиллических народов.
Но принимать за чистую монету все подобного рода заявления модернистов, видеть в них resignation известной части буржуазии, отказ последней от пути, по которому она идет, от дальнейших экономических завоеваний – как это обычно делается – мы не имеем ни малейших оснований. Не симптомами упадка, вырождения современного капитализма и возврата к докапиталистической технике служат эти заявления, а, наоборот, симптомами роста и укрепления новейшей индустрии. Модернистская «простота» есть как раз детище проклинаемой модернистами машины, естественный плод ее поступательного развития, показатель ее триумфа.
Зависимость модернизма от современного машинного производства была отмечена давно, еще в дни модернистских «бурных стремлений». «Я думаю, что эти явления (явления переворота в искусстве) стоят в необходимой связи с развитием нашей современной железной машинной индустрии, – говорил некто Юлиус Лессинг, заведующий коллекциями берлинского музея художественной промышленности, в своем очерке «Das Moderne in der Kunst» – неминуемо обусловливающей пересмотр старой наличности технических и, следовательно, художественных форм». Лессинг указывал на роль