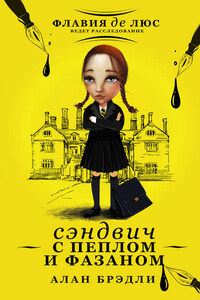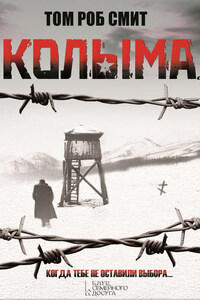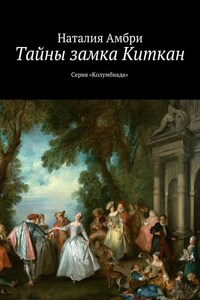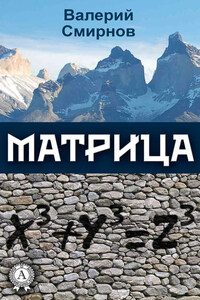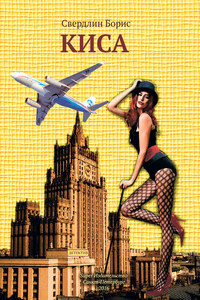Завитки сырого тумана поднимались надо льдом, будто агонизирующие души, покидающие тела. В холодном воздухе парила полупрозрачная волнообразная дымка.
Я носилась взад-вперед по длинной галерее, и серебряные лезвия моих коньков издавали печальный скрип, как будто нож мясника энергично точили о камень. Под поверхностью льда был четко виден затейливый узор паркета, хотя цвета несколько потускнели из-за дифракции.
Над головой огоньки двенадцати дюжин свечей, которые я стянула из кладовой дворецкого и воткнула в старинные канделябры, сумасшедше подергивались от потока воздуха, создаваемого моим стремительным движением. Я носилась по комнате – взад-вперед, туда-сюда. Набирала полные легкие колючего воздуха и выдыхала маленькие серебристые облачка конденсата.
Когда наконец я затормозила скользящим движением, осколки льда взлетели в воздух ломкой волной крошечных разноцветных бриллиантов.
Затопить картинную галерею было довольно просто: резиновый садовый шланг, просунутый сквозь открытое окно с террасы и оставленный течь всю ночь, сделал свое дело – он и сильный холод, который последние две недели держал всю округу леденящей хваткой.
Поскольку все равно никто никогда не приходит в неотапливаемое восточное крыло Букшоу, никто не заметит мой импровизированный каток – по крайней мере до весны, когда он растает. Никто, вероятно, кроме моих написанных маслом предков, ряд за рядом они сейчас кисло смотрели на меня из тяжелых рам с ледяным неодобрением того, что я натворила.
Я громко выразила им свое презрение, эхом разнесшееся по галерее, и снова оттолкнулась в холодный туман, нагнувшись, словно конькобежец, правой рукой разрезая воздух, левую убрав за спину, с развевающимися косичками и с таким небрежным видом, как будто я вышла прогуляться по окрестностям в воскресный день.
Как было бы мило, подумала я, если бы какой-нибудь модный фотограф вроде Сесила Битона оказался здесь сейчас с фотоаппаратом, дабы увековечить сей момент.
«Продолжай в том же духе, дорогая, – сказал бы он. – Представь, что меня здесь нет». И я бы снова летала, как ветер, по просторам старинной картинной галереи, обшитой панелями, и мои движения время от времени замирали бы в свете неяркой фотовспышки.
Потом, через неделю-другую, я бы оказалась на страницах «Сельской жизни» или «Иллюстрированных лондонских новостей», захваченная в движении, навеки застывшая, решительно и целеустремленно пригнувшись.
«Восхитительная… очаровательная… де Люс, – гласил бы заголовок. – Одиннадцатилетняя фигуристка – поэзия в движении».
«Господи! – воскликнет отец. – Это Флавия! Офелия! Дафна! – крикнет он, размахивая страницей в воздухе, словно флагом, затем снова взглянет на нее, просто на всякий случай. – Быстро идите сюда! Это Флавия, ваша сестра!»
При мысли о сестрах я не сдержала стона. До сих пор меня не особенно беспокоил холод, но теперь он вцепился в меня с неожиданной силой атлантического шторма: сильный, пронизывающий, парализующий холод зимнего конвоя – холод могилы.
Я содрогнулась с головы до ног и открыла глаза.
Стрелки бронзового будильника показывали четверть седьмого.
Высунув ноги из-под одеяла, я нащупала тапочки кончиками пальцев, затем, завернувшись в простыни, одеяла, вывалилась с кровати и, согнувшись, словно огромная гусеница, поползла к окну.