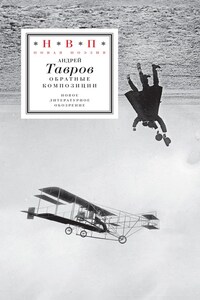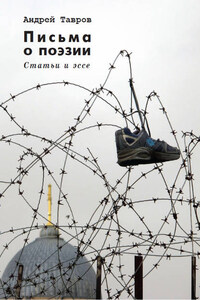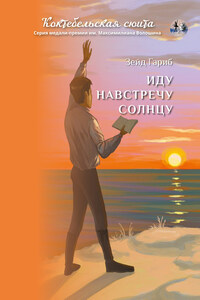Реальность, увиденная оком Единого
Книга новых стихов Андрея Таврова – на две трети о войне. О войне как таковой, войне, взятой как состояние, войне вообще, которую, в отличие от войны конкретной, длящейся или оставившей свежий след, поэзия избегает (причина чему интуитивно понятна).
Так вот, в этой книге войне отдано две трети, то есть две из трех частей или, точнее, разделов.
Локализация во времени, заявленная уже самим названием первого раздела – «За месяц до войны», вызовет, пожалуй, легкий дискомфорт неузнавания у читателя, хорошо знакомого с поэзией Таврова, поскольку та «недолюбливает» саму категорию времени: как течет время внутри тавровской вселенной, линейно оно или циклично, установить невозможно. Впрочем, отсутствие времени не исключает присутствия истории, постоянно проживающей саму себя в вечности, почему и ни один, наверное, критик или исследователь, касавшийся стихов Таврова, не обошелся без упоминания мифа. И вот мы видим тексты «За месяц до войны», к историческому времени недвусмысленно привязанные, и поначалу, по совокупности узнаваемых деталей и имен собственных, может показаться, что даже война конкретизирована – Первая мировая. Однако на самом деле «поводок» все-таки длиннее или охват шире: не первое десятилетие XX века, а весь XX век.
Повышенная плотность на пространственную единицу, поиск предельно объективного в предельно субъективном, когда чем глубже внутрь себя, тем всемирнее, всечеловечнее, потому что подсознание населено архетипами, – все это лишь самое очевидное «присутствие» модернизма в его поэтике.
Как и в случае «Кантос» Паунда (рефлексию чьего – равно и Т. С. Элиота – наследия у Таврова можно уподобить ответным репликам воображаемого одностороннего диалога, очень личного), вневременность необходима или интересна для автора лишь из определенной временной точки, той, где он сам пребывает. С одной стороны, историческая реальность спасена из времени, возведена до мифа. История рассеивается в вечности, но не исчезает в ней; это рассеяние – свобода; со свободно дышащей, времени более ничем не обязанной Историей вольно дышит и поэт. С другой стороны, эта вечность оказывается внутри XX века, призываемая если не для того, чтобы судить его, то по крайней мере ради того, чтобы свидетельствовать на этом процессе.
Якобы индифферентная ко времени поэзия Таврова, и особенно представленные в этой книге стихи, это рефлексия XX века, но рефлексия почти телесная по степени вовлеченности, пристрастности, кровности. Когда все условное перестает быть условным, когда все настолько касается лично меня, тогда миф – хоть по Лосеву, хоть по Элиаде – уже не миф; тогда начинается трагедия, и Тавров обращается к сюжетам не мифологическим, а трагедийным – и для XX века знаковым: Эдип, Антигона, Ифигения. Именно XX век развернул античное наследие на 180°, заставив служить воплощением не гармонии, но дисгармонии. Блаженные бессмертные гении, как именовал их Гёльдерлин, являют уже не гарант устойчивости, но всю глубину безосновности. Мир за месяц до войны у Таврова – мир перманентной катастрофы1. Падает ли на него тень из недалекого будущего или, наоборот, будущее потому и таково, что подготовлено, это для данного мира, как и для стихов, не важно. «Катастрофизм» присущ умонастроению первой половины XX века, и, соответственно, Тавров «окликает» и сюрреалистов, и обэриутов.
…конь скачущий в жокее раскрывался / вот вытянется словно кот копытом / вот руку заднюю посеребрит / из плеч их снова выбросит как камни / и вспять в жокея ямою уйдет / а тот как человек сидит в коне, огромным глазом / он смотрит на ветвящуюся землю / как будто бы она как дым за пулей / его сухое тело – мысль коня – / ползет в коне в длину / из морды выступает ликом человечьим / уже незрячим, вдохновенным