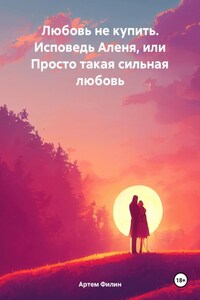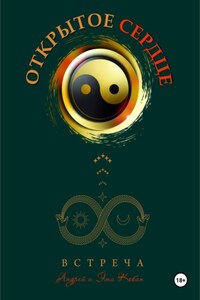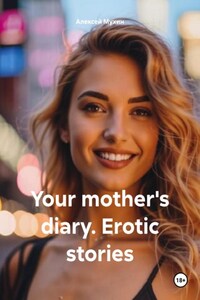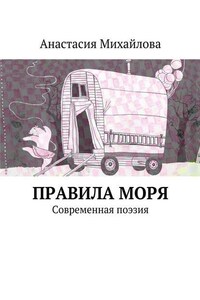Он лежал, нет, он скорее валялся, как выброшенная на берег моря большая рыбина. Море буянило, шумело, а он, эта почти рыбина, метр семьдесят два сантиметра, рядом почти под головой этой рыбки-человека лежал этюдник. По его лакированным бокам плескалась вода, морская солёная. А лодку швыряло, трясло, ему теперь уже ясно было, не до картинки, которую он думал, напишет и повезёт в тургеневский город, где учился и жил. Дёрнул же его кто-то, поехали, поехали в Крым. И вот те нате мой приятель, вынь да положь его на зелёную травку, да по берёзовым рощицам, да грибы белые, да уха. Нет, прибыл. Вот тебе море, и рыбка, а он, мужик, который согласился взять с собой художника, да пусть, может и правда напишет этюд. Этот рыбак ему и сказал, что зыбок сегодня. Море для живописи что надо. Когда штиль, скука. Вон смотри у Айвазовского, штиль, штиль-пустота, а вот шторм, да. Корабль тонет – это работа, это интересно…
А сейчас, и от берега близко, а он со своим этюдником валяется на горбатых шпангоутах да, и ещё летят в его сторону золотистая тараночка и барабулька, какие-то непонятные жители моря шлёпаются куда зря, а иногда ему на небритую бороду прилуняется блестящая чешуёй эта морская мелочь. Век бы её не видать и, когда рыбак увидел, что он непотребно валяется на дне его рыболовецкого корыта, как он, сам величал, свой почти черноморский сейнер почти. Удивился, но ничего не мог поменять – шёл клёв и какой!
Рыбки стали как бешенные лететь ему чуть ли не в раскрытый рот, которым он жадно хватал воздух, но морская болезнь не хотела покидать его почти атлетическое тело.
Солнышко уже припекало и, обливаясь потом, он пытался заговорить с рыбаком «а не пора ли вас приятели послать к ядрёной матери»… Так ему уже досталось от этой рыбалки. Но рыбак телепааат, видимо услышал его художника, позыв-мольбу, начал собирать удочки и всё своё рыболовецкое снаряжение. Он громко воскликнул, торжественно как на параде на Красной площади. Всё товарищи, клёва нет.
Достал со дна морского свой якорь и, не обращая внимание на валявшегося на дне лодки почти ещё человека, на котором лежали рыбки, не уснули и он, художник не обращал на них никакого внимания, если бы они, эти ещё не заснувшие навсегда твари попали к нему в рот или на лицо, он бы не мог уже и дунуть на них не то, что бы ругнуться и послать её эту рыбёшку к своей матери или папе – морскому царю-Батюшке.
Лодка их, маленький «тузик»,уже не на шутку стала демонстрировать свои способности на крен и деферент.
Когда сняли с якоря, её дёргало, она стала помахивать своими бортами, и, казалось рыбак испытывает своё плавсредство на непотопляемость – хлебнула сначала левым бортом, потом правым, гребень волны, да так, что рыбка размером один метр и семьдесят два сантиметра, с этюдником, имея высшее образование и почти красный диплом, начала плевать, грудной кашель и нечленораздельная, тирада непедагогического качества, с бульбами, вырывалась из его святых незнающих совсем уж бранных слов, вырывалась из его казалось, угасающей груди.
Потом только рыбак понял, что это уже не «зыбок», а пошла низовка – ветерок, которого нет, а волна поошлааа и гребешки с белыми барашками оживляли колорит этому забрызганному пеной морскою вперемежку с таранкой, барабулькой и морской тиной, которая была на днище, но почему-то не снаружи, а уже на ногах и лице рыбки-человека.
Но вот рыбак быстро развернул своё любимое корыто. Море будто пожалело их, гребни слегка залетали с левого борта, а за кормой был бурун, это значит, они всё-таки набрали ход и берег потихоньку шёл им навстречу. Но уж очень медленно. Очень…
На берегу заметили, стояли и бегали, кричали: сюда, сюда и когда были уже совсем близко, жена художника закричала, нет, она уже выла, и непонятно было, что она говорит-кричит. Мы только поняли, что его, художника и мужа и друга не видят – решили, видимо… уже кормит рыбок на дне морском.