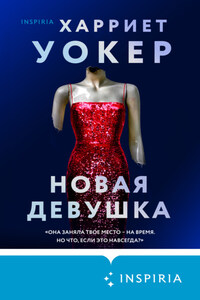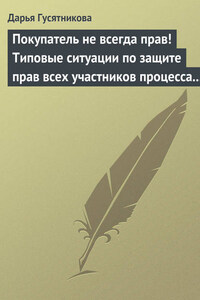Я открываю глаза. Вокруг одна чёртова темнота, в которой полыхают красные круги – мутное следствие воспалённых век.
Значит, ещё нет семи. Надо же – я проснулась ночью всего раз за две недели. Раньше такое случалось чаще.
Ничего не видно. Но невелика беда – к своему сожалению я и так могу рассказать, не боясь ошибиться, где и что находится в этом проклятом месте. С удовольствием бы вышвырнула эту информацию куда подальше из головы, но, к большому сожалению, сомневаюсь, что это мне когда-то удастся.
Завтра уже три месяца, как мне снова и снова приходится просыпаться в этом аду. Нет, я не отмечаю каждый свой день пребывания здесь какими-нибудь пометками на стене или чем-то похожим. Всё проще – тут каждый день сообщают дату.
Завтра наступит мой очередной маленький юбилей.
Боль в груди страшная: будто ремень, перетянув рёбра, сдавил их так, что они поломались и вонзились острыми осколками внутрь. Но в следующий миг я поняла, что это остановилось моё дыхание – я не могу выдохнуть. Сделав над собой усилие, с трудом выпускаю воздух из лёгких. Больно так, будто по дыхательным путям прокатился раскалённый огонь.
Пожалуй, выдох получился слишком стремительным – грудная клетка ещё не оправилась до конца после всего. Мысленно ругая себя, я с куда большей осторожностью, по каплям, делаю вдох и вдруг слышу хриплый стон.
Неужели снова…
Сердце успевает подскочить к самому горлу прежде, чем осознаю, что хрип издаю я.
Тут сон окончательно покидает меня, сменяясь на ставшие уже обыденными чувства сожаления и глухого отчаяния, к которым в последний месяц начало примешиваться мрачное равнодушие. Последнее стало моей защитой и проклятьем одновременно. Если оставлять чувства обострёнными, то так здесь сойдёшь с ума. А если превратиться в безразличное дерево – быстро сдашься.
Постепенно ко мне возвращаются и привычные ощущения. Их много во всём теле, и их нельзя назвать приятными, но самых невыносимых – два. Первое – это режущая боль в правом локтевом сгибе,я потеряла счёт тому, сколько раз мне протыкали иглами вены, пуская туда различную гадость. Хотя мучениям подвергали обе мои руки, правая страдала в два раза чаще и поэтому ныла постоянно. Днём я просто переставала обращать на это внимание, но утром, вместе с перезагрузкой сознания, тянущее жжение вновь обострялось.
Второе – отвратительный привкус во рту, напоминающий горелый пластик с углём, который не убирает никакое проглатывание слюны.
Горечь, отдающую даже в нос, вызывающую тошноту, прогоняет лишь тщательная чистка зубов. Ещё при этом, конечно, нужно суметь дойти до раковины – когда каждый шаг рискуешь грохнуться в обморок от головокружения, а держаться не за что, задача становится затруднительной.
Однако я всегда с ней справляюсь. Не хочу доставлять удовольствие тому, кто за мной наблюдает.
Включается свет. Я рефлекторно зажмуриваю глаза, но те уже привыкли к такому, так что через мгновение я снова вижу примитивную обстановку ненавистной комнаты.
Везде ослепляющий белизной свет. Белое здесь всё – пол, стены, потолок, дверь напротив, постельное бельё на пластиковой больничной кровати. Слева – тумбочка без ящиков с установленным на ней монитором. Экран был сейчас выключен, и его тёмное пятно разительно контрастировало с окружающей обстановкой, хоть и органично в неё вписывалось. Рядом бесхозно змеились провода.
Ещё дальше, за тумбочкой, стоял прикрученный к стене пустой штатив.
Вспомнив недавно пережитый курс капельниц, я вздрогнула и посмотрела направо, в сторону «санитарного угла». Тот представлял собой отгороженный покрытыми кафелем стенами закуток, где почти вплотную друг к другу располагались унитаз, раковина и душевая с не закрывающейся дверцей – всё из нержавеющей стали. Туда вёл ничем не загороженный дверной проём. В первые дни пребывания здесь я считала это место единственным, где можно спрятаться от постоянного наблюдения. Но позже оказалось, что даже напротив проёма установлена камера.