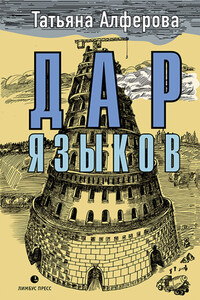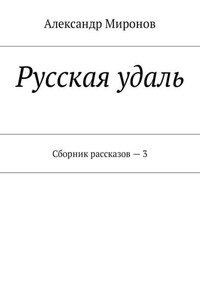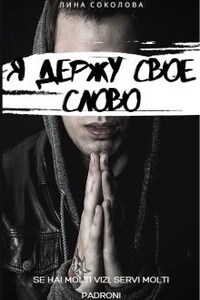Свет разламывал комнату на три части, так бодрые собутыльники кромсают плавленый сырок. На скамейке за магазином, в скверике, на пустой детской площадке – в середине 90-х, не позже и не раньше.
Она просыпалась. С трудом выбиралась из мягкой трясины сна – типичные сочетания слов навязывались романами-фэнтези, такие романы хорошо покупались. Ее принимал острый электрический свет, хватал больно, как акушерка, и память о чужом прикосновении осталась – а младенцы забывают, разве, нет? Пробуждение оказалось нерадостным. Незнакомые ощущения, пока еще неотчетливые и явственный привкус вины – не вчерашней похмельной, а давней, накопившейся. Она попыталась оседлать привычную волну неги (еще один спасительный, нет – спасающий штамп), что возникала при простом движении руки от ключиц к животу и лишь тогда обнаружила, что именно встревожило в нынешнем пробуждении: рука не подчинилась. Приподнять голову тоже не удалось. Тело ей больше не принадлежало – очередной штамп, заклинило ее, что ли? Но это жизнь, еще жизнь. Или – нет? Стремительный нарастающий испуг не пускал обратно в уютную нишу меж сном и бодрствованием, не позволял еще немного побыть собой прежней, нянча тепло, скользнувшее по телу. Она проснулась к утрате.
Резкий свет незащищенных плафонами лампочек старенькой трехрожковой люстры заливал комнату. Схваченный голодными стенами воздух пропитался запахом табака и пролитого пива, она этого не чувствовала, но предполагала. По счастью, слух, как и зрение, остались при ней, даже сделались острее. Скудная тишина выстраивалась из звуков редких капель, отрывающихся от крана на кухне и звонко бьющих в тарелку, забытую в мойке вчера вечером, и прерываемого всхлипами похрапывания, доносящегося от стола в центре комнаты. За столом двое мужчин склонили головы на скрещенные руки. Почти одинаково выглядели их измятые брюки, тяжелые ботинки с разводами соли, опущенные плечи, вытянутые шеи и беззащитные затылки: покрытый темными спутавшимися волосами и коротко стриженый светло-русый. Но руки и голова одного покоились рядом с желтыми подсыхающими лужицами пива, а голова другого – в темном страшном пятне. Она уже поняла, что это за пятно, пусть оно было бурым, а не красным: кровь сворачивается быстро и меняет цвет, известно из детективов. Теперь она знала по опыту.
Сверху границы пятна выглядели отчетливо выпуклыми и казались реальней, чем навалившиеся на стол фигуры. Она еще не привыкла к подобному ракурсу: обзор сверху пугал точно так же, как внутренний холод. Раньше оттуда – от солнечного сплетения – шло тепло. Взгляд проваливался в углы между стенами, скучая и томясь, скользил по обоям, как по льду. Но за окном с тяжелыми, старомодными шторами открылся коридор, тот самый тоннель с непременным светом в конце, который всем предстоит пройти. Его и видят-то отчасти потому, что не могут обмануть собственное ожидание.
По сторонам уводящего к свету коридора расположились странные, смутно знакомые персонажи: невзрачные старушки с быстрыми молодыми глазами, пятеро мужчин в старинной одежде и веревкой в руке, изможденный, похожий на ожившего мертвеца, крестьянин, пастух и землепашец, сошедшие со страниц учебника истории Древнего мира. Фигуры множились, повторяя себя как матрешки, уменьшаясь в размерах по мере удаления: большой, под потолок, пастух у входа, точно такой же, но в рост человека, через пятнадцать фигур, маленький пастух, следом совсем крошечный, не более божьей коровки. Далее она не различала даже новым острым зрением. Поняла, что они ждут ее, но не знала зачем: помочь, или воспрепятствовать. Обращенные к ней взгляды, спокойные и равнодушные, не давали ответа.