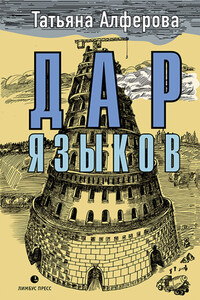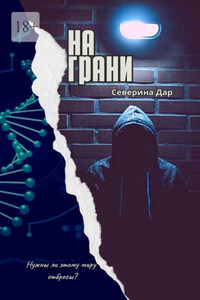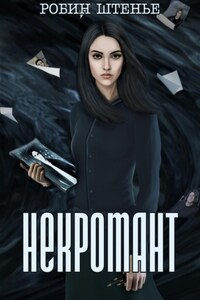Я последняя хранительница памяти нашей семьи. Той памяти, что передавалась из поколения в поколение по женской линии, от матери к дочери. Некогда огромная семья до сих пор внушительна: у меня десять племянников, но своих детей нет, и линия прервалась. Женщины играли ведущую роль не обязательно в силу характера, порой за счет количества. В третьем колене их было три – три сестры. Старшая – Мария, моя бабушка. Средняя – Катерина и младшая – Антонина не продолжили рода.
Такое важное женское понятие, как семья, у каждой висело в рамочке на почетном месте, а вот любовь обдувалась ветерком во дворике. Это не означает, что они не мечтали об избраннике, но один принц вполне подлежал замене другим. Унаследованное свойство, традиция. Со смехом, но более с гордостью, передавалась история сватовства прабабушки Анны. К безземельной сироте, живущей у крестного отца, посватались сразу четверо. Ответ отложили на следующий день, до утра. Тетка Пелагея, жена крестного, искрутилась на лавке, а прабабушка спит себе на полатях. Но тетка не обладала безмятежной сонливостью, которая будет передаваться по наследству, как память, и поэтому сердито шептала снизу:
– Анна, спишь, что ли?
– Сплю, Кока, сплю.
И в конце концов:
– Да ты не спи, Анна, думай, за кого идти-то!
Отдали, конечно, за самого богатого.
Оборачиваясь, обнаруживаешь прошлое сахарным. Решения принимались легче и быстрее. Их поступки, увеличенные биноклем времени, кажутся полновеснее наших. И разумнее. Несмотря на то, что они промахивались, даже если выбирали богатых. Жизнь складывалась из бесконечной работы, а память хранила, в основном, историю отношений.
Бабушка умерла, и я прокатила родственников с наследством. Я забрала не только фаянсового теленка, который каждое утро, пока я была маленькой, приносил в копытцах горошину обсыпанного сахаром драже, но и весь город. Город с непременным городским садом, желудями и черемухой, с центральной улицей, где обосновалась местная сумасшедшая, умещавшая в одном выкрике-предложении целые истории:
– Она бегала с бритвой по переулку, когда за ним пришли!
И двор, бабушкин двор, я забрала со всеми дровяными сарайчиками и пристройками, со старой квартирой, помещавшейся в каретном сарае бывшей купеческой усадьбы. В центре двора стояла маленькая покосившаяся мазанка, там жил Универсам. Так прозвал его мой дед за «помоечный» промысел. С утра Универсам с тележкой совершал обход мусорных баков по всему району, к обеду возвращался нагруженный, тяжело стуча разномастными колесиками по булыжной мостовой. Через тридцать лет этот промысел повсеместно освоят бомжи. По смерти Универсама осталась полуслепая жена Раечка, взятая им «из тюрьмы» после войны. Выпив, она часто пела странные будоражащие песни. Некоторые из них я встречу позже в сборниках «Русский городской романс» и «Споем, жиган». На семидесятом году у Раечки появился молодой двадцатишестилетний кавалер. Пока хватало Раечкиной инвалидной пенсии по зрению, они пили «белое» и вместе пели по вечерам, когда пенсия кончалась, переходили на «синюху» – средство для мытья окон; иногда дрались. Во дворе давно перестали об этом судачить, привыкли.
Загадкой оставалась лишь Дуся, живущая не в каретном сарае, как все, а в старом господском доме с полуразрушенным вторым этажом. Она выходила из дому раз в сутки, ненадолго: вынести мусорное ведро и покормить кошек. Во дворе обреталась целая орава серых, рыжих, полосатых и муаровых Васек и Мусек. Как говорит знакомый кошковед: «Порода помоечная, мелкобашковая». Где Дуся брала еду или, допустим, спички, не ходя на улицу, – не знаю. Дровяные некрашеные сараи в то время не зияли провалами и скрывали массу удивительных вещей – в дедушкином я нашла слегка объеденного мышами «Дон Кихота». Он пах подберезовиком и сыроежками, это был восхитительный запах.