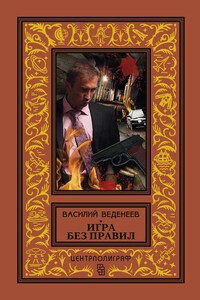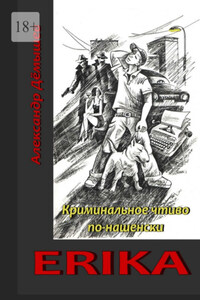Пять-тридцать утра.
Надо идти на парад. «Ладно», – успокоился, проснулся вроде. Включил свет. Комната. Общага. Бардак жуткий! В комнате я один. Развалено всё, что можно. Надо идти. Прилег. В дверь бесцеремонно заваливается друган – Серега. Он хозяин этой комнаты. Поэтому сразу по-хозяйски ставит на традиционную тумбочку-стол бутылку «андроповки», рюмки, тут же наливает: «Ну, за Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию!»
Тянусь с ленцой, успеваю коснуться и… вдруг звонок – резкий, пронзительный!
Реальность выметает остатки сна – никогда! никогда к этому не привыкнуть. Как в недостижимое прошлое уносится спасительная рюмочка водки праздничным полшестого утра, и была ли она вовсе?
Десять минут – туалет, очередь на очко, заправка коек. Разве можно заправить металлический шконарь тремя кусками ваты?
Глаза режет плотный, непробиваемый воздух: блевать или испражняться – разницы нет, запах один и тот же! – он неотделим от обитателей камеры три на два.
«Крытая» гудит низким алюминиевым басом, просыпаясь. Через двадцать минут утренний осмотр. Сверху из космоса осматривает землю Бог – Он видит все, должен видеть – но почему, почему Он не задерживается на омытых слезами отчаяния крышах Централа? – вот же они! – с высоты, равной бесконечности, только миг Твоего внимания, – и сотни благодарных глаз вознесутся к небу. Почему, почему взгляд Твой проскальзывает мимо?
Заползал по простыням тогда – шестого ноября восемьдесят четвертого – второй этаж всего-то! Крепкие узлы простыней, крепкие мышцы рук, – и мы на танцах в общаге Станкостроительного завода. Сил – уйма, – весна-а-а! Силы, силищи! – добавляли анаболические порции родной «пшеничной». Потом – кругом голова! Ноги ходуном, руки в кровь, драка… мир. Любовь, первая… в первый раз. Снова танцы! Провал, забытье… Утром – водка, парад!
Это потом, через пятнадцать долгих лет, старый друг Серега, Сергей Владимирович, достроит свой гипермаркет на тридцати гектарах бывшего Станкостроительного (того самого). А сейчас, между первой и второй, – э-э-х! – пора: Сереге на завод (парторг, завстоловой), мне – к моим джазовым приятелям по музучилищу, завернувшись в красные стяги пить «зубровку», хохоча под Кузьмина: «Когда нам было по семнадцать лет!» – а рядом, что есть силы, вразнобой, но весело, разрывает осенний морозец духовой оркестр: «Сме-ло, това-рищи, в но-о-гу!» – Просто им тоже хочется выпить, но… работа.
– Встать, лицом к стене! Руки за спину, приготовиться к осмотру. – Кормушка падает одновременно с последним приказом-гавканьем старшего прапора.
Что-то не заладилось с этим прапором, как-то сразу, с первого взгляда, где-то на подсознательном уровне. Дверь открылась – иллюзия дуновенья свежего воздуха оборвалась с ударами резиновой дубиной по наглухо приваренным к стенам шконарям. Вошедший первым дежурный опер проверял содержимое коек – дубина соскальзывала на плечи, головы стоящих спиной осужденных. Не дай бог что-то звякнет или выпадет. Тесно.
– Поднять руки! – Плотно прижавшись друг к другу локтями, лбами – в кромку второго яруса, ждем окончания осмотра-обыска. Нет! – он, второй проверяющий младший инспектор Ясенев, специально роется во мне чуть дольше, чуть пакостней, больно пронзая ребром ладони промежность. Он – цепляет ногтями за кожу, он – чувствует мою сжатую губами ненависть, и я, затылком, вижу его мерзкую полуулыбку: «Книжки читаешь? – нервно спрашивают потные руки контролера. – Не куришь? Приседаешь на прогулке?»
– От вас воняет, гражданин прапорщик.
После армии, на исходе восьмидесятых, так и не смог соединить разорванные службой половинки жизни. Все не то: ушло бездумное веселье, совковую размеренность сменила непонятная мне суета кооперативного движения. Парад революционных идей превращался в клоунаду. В кумачовый стяг высморкались и им же подтерлись.