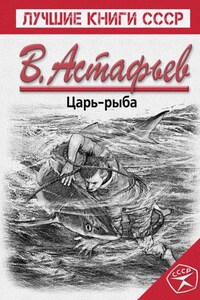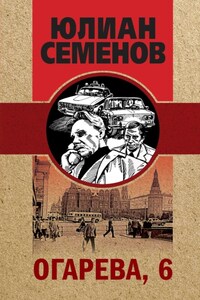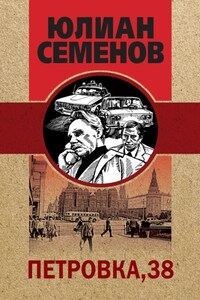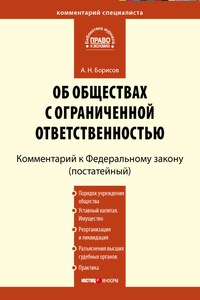Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать – так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду – это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки – это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.
Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла, что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите – эти были уже не от гостей, должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол – вымою утром. Но в эту минуту Домна Ефимовна вышла из своей каморки и закричала: «Ты что же это делаешь, дрянь этакая!» – хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань. Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.
Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились, и газовый фонарь – единственный на всю Застенную – зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась на сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки – тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой.
– А керосин? Забыла?
Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбегать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.
– Сейчас сбегаю, Домна Ефимовна.
– Сбегаешь! Небось закрылись уже!
– Не беда, зайду с черного хода.
Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опрометью выбежала на улицу – и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полстью широкие сани.
– Дорогу!
Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что в них сидят какие-то люди в светлых шинелях – гимназисты или офицеры?
Бобриковы отпустили с черного хода, я отдала керосин Домне Ефимовне, побежала домой и, спускаясь с Ольгинского моста, снова увидела этих людей в светлых шинелях. Они раздвоились, или у меня стало двоиться в глазах, но за первыми двумя поодаль шли еще двое. Потом они замедлили шаги и стали негромко разговаривать; до меня, к сожалению, не доносилось ни слова. Они стояли и разговаривали, как будто был не декабрь месяц, а май, когда молодежь из окрестных деревень приезжала погулять в посаде.
Это было действительно странно! Зачем они приехали сюда так поздно? Зачем свернули с набережной и пошли через поле? Что собираются делать в двух шагах от кожевенного завода, у которого теперь, во время войны, всегда стояла охрана? Почему двое отошли в сторону, а двое закурили и, постояв, стали крупно шагать по полю, точно собрались измерить его шагами? Снег был глубокий, они проваливались, но все-таки продолжали шагать. Почему двое оставшихся в стороне сняли шинели? Было очень холодно, но они как ни в чем не бывало бросили на снег шинели и медленно, как бы нехотя пошли навстречу друг другу…