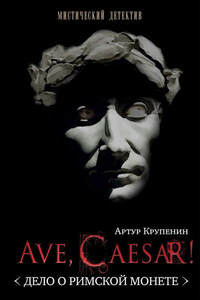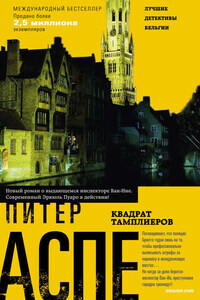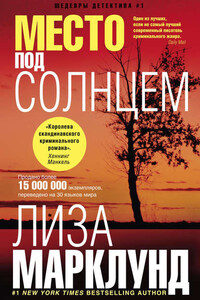Ненавижу свою жизнь. Через три года мне будет двадцать, это ровно половина от сорока. Через восемь лет Карлу будет девяносто, соответственно, мне – двадцать пять, а я так и буду торчать тут. С ним. Мрачная перспектива, лучше и не думать. И так проблем полно.
Карл стоит передо мной в чем мать родила. Пена на его костлявых плечах похожа на снег. Карл немного дрожит, хотя в ванной комнате тепло. Зеркало запотело, под потолком клубится пар. Я вытираю Карлу спину, потому что он больше не может делать этого сам. Если перечислить все то, чего Карл больше не может делать сам, хватит не на одну книгу. Карл качается и вытягивает руки, чтобы опереться о стену. Через шестьдесят пять лет мне будет столько же, сколько ему сейчас.
– На вот, сам вытирай своего заморыша, – говорю я и отдаю ему полотенце.
– Заморыша, – повторяет Карл и хихикает.
Иногда он понимает всё, даже пошлые шуточки. В такие моменты его голова – как старое радио, запыленные внутренности которого вдруг оживают и снова начинают ловить волну. Но чаще его хватает лишь на простые фразы, в особенно плохие дни – на отдельные слова вроде «есть», «спать» или «пирог». Карлу становится все хуже. Когда его мозги совсем выйдут из строя, мы вообще больше не сможем общаться. Не знаю, буду ли я без этого скучать.
В пятнадцать я начал работать у Карла учеником-садовником. Мама считала, что это отличный вариант, хотя на самом деле таким способом ей удалось решить проблему – легко и просто избавиться от меня после смерти отца. Карл в то время уже не имел права брать учеников. Голова у него тогда еще работала вполне прилично, но все равно он был уже старым, с больными ногами и в саду возился только ради собственного удовольствия. Тем не менее маме как-то удалось договориться с чиновниками. Правда, мне кажется, что при том количестве подростков в нашем районе, бросивших школу и сидящих без работы, местных чиновников совершенно не волнует, чем я тут занимаюсь. Главное, чтобы я был накормлен, не болтался без дела и не принимал наркотиков.
Карл показал мне, как сажать цветочные луковицы, подрезать розовые кусты и высаживать рассаду. От него я узнал, как сделать хороший компост и избавиться от листовой тли. Теперь я могу отличить гвоздику-травянку от гвоздики серовато-голубой и умею работать тяпкой и граблями. Я многому научился тут, но до сих пор не знаю, как устроен большой мир и что чувствуешь, обнимая раздетую девушку.
Моя мать целый год возила меня в город в училище по четвергам, час туда и час обратно. Она певица. В то время она выступала с разными танцевальными группами на вечеринках, корпоративах и свадьбах. Хотя вообще-то она джазовая певица. Она поет в квартете и разъезжает с ним по всяким клубам и прочим питейным заведениям Европы. Клавишные, саксофон, бас, ударные и она. На фотографии для прессы мама в длинном черном платье и черных перчатках до локтя. Четверо ее музыкантов в смокингах и бабочках стоят и улыбаются в камеру. Под фотографией подпись курсивом: BETTY BLACK & THE EMERALD JAZZ BAND. Девичья фамилия моей матери Пасслак, Беттина Пасслак. Ей всегда казалось, что в такой фамилии слишком явно чувствуется провинциальный дух Нойруппина, а вот Нью-Йорком и не пахнет. Шиллинг, фамилию моего отца, она использовать не захотела. У нее в паспорте написано: Беттина Шиллинг-Пасслак, но в музыкальной среде ее знают только под псевдонимом. Она много где бывает, ездит по всей Европе, от Палермо до Хельсинки, от Аликанте до Варшавы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сделать карьеру. Не знаю почему. То ли ей не хватает честолюбия, то ли деловой хватки. Или просто хорошего менеджера. А может, у нее слишком обычный голос. Да еще и джаз. Кто сегодня такое слушает?