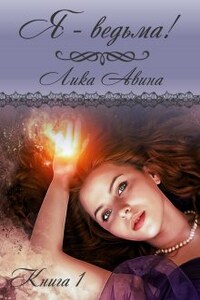Они считали, что я должна покаяться.
Выходило, что покаяться я должна за то, что я родилась не здесь, а
на далекой, богопротивной земле, и что с рождения я унаследовала
проклятие чудовищ, как они это называли. Магию. Тот талант, что в
родных мне Пурпурных землях Империи признавался великим
благословением, здесь, в богобоязненном Пар-ооле, считался самым
постыдным и грязным, отвратительнее, чем гнойные язвы, более
неприличным, чем сношение с козами и разграбление могил.
Я сидела в клетке, которую они
сковали задолго до моего рождения, в клетке, на полу которой
побывало так много отчаявшихся иноземцев, что он покрылся слоем
грязи их потных от ужаса и одуряющей пар-оольской жары тел. На
потемневших досках застыла соль слез, в пористое податливое дерево
впиталась кровь. Мне не хотелось касаться этой многолетней грязи,
не хотелось вдыхать сладковато-металлический запах витающих в
воздухе благовоний.
Я почти отчаялась. Я не оставила
надежды — не потому, что у меня сохранились силы, а лишь служителям
храма тысячи богов назло. Черные как уголь, громадные как горы,
разодетые в багровые одежды, звенящие металлом, с широкими носами и
пухлыми губами, со светящимися на темных лицах белками глаз — мои
охранники были похожи на ожившие идолы. Я пыталась говорить себе,
что еще больше они напоминают мне карикатурные деревянные фигурки,
хранившиеся у моей матери Дилланы. Фигурки, сгоревшие вместе с
ней.
Они заставляли меня каяться на
коленях.
Я елозила руками по отвратительному
полу, молясь не занозить предплечья и не умереть следом от гниения
крови. Я делала вид, что утираю слезы, и даже не поднимала на
служителей храма глаз: это было мне не нужно. В их жестоких сердцах
я, светлокожая, с вытянутыми глазами и светлыми волосами, не
вызывала даже жалости. Я не была для них привлекательна, не была
достойна сочувствия. Когда вечерами я обмывалась выдержанной в
розовой воде тканью, ни один из них не задерживал на мне взгляда.
За их непроницаемыми лицами скрывались лишь раздражение, скука и
священный религиозный пыл.
Их боги говорили им, что меня нужно
казнить. Десять дней отвратительного существования в клетке
напоследок должны были спасти мою душу, какой бы мерзкой я ни была,
а значит, смыть с их рук мою кровь. Они поставили мою клетку в
храме — какая насмешка! На меня равнодушно глядели глаза их
дикарских божков, и когда солнце заходило, последние лучи его
делали лица деревянных фигур похожими на чудовищ. Тяжелый запах
сандала и ладана, и еще каких-то неизвестных мне благовоний
наполнял неподвижный воздух. Я не могла дышать, сладость будто
залепляла мои горло и легкие.
Ночью меня тоже сторожили. Два
стражника несли своеобразное послушание: охраняли клетки, и когда я
засыпала, они били своими палками по прутьям, чтобы я не смыкала
глаз и, очевидно, продолжала неустанно каяться в том, что во мне
открылся дар.
Я знала, что не выйду живой из этого
ужасного места. Я не плакала и не молилась, а лишь отупело смотрела
на приходящих в храм воззвать к богам пар-оольцев, и смеялась над
их глупыми действиями: они думали об успехе торговли — и рассыпали
перед идолами какой-то крупный красный горох, сбрызгивая его
козлиной кровью; они просили у своих богов-чудовищ излечения от
болезни — и съедали какой-то похожий на инжир, но ужасный на вкус
фрукт, не морщась и не проливая слез. Мне было жаль их, их всех:
они просто не знали, что за пределами их огороженного артефактами
мирка существует другой, свободный мир.
Мой мир. Империя Рад. Пурпурная
земля. Я видела сны о моих родных бескрайних холодных просторах —
но после меня будили, и я снова оказывалась в кошмаре.
.
Появившиеся по истечении четвертого
дня моих мучений люди сначала показались мне грезой. Это точно были
не пар-оольцы: кожа их была совсем светлой, как и моя, и одеты они
были в плотные и тяжелые ткани, прохваченные узорами золотых
волокон. Среди мрачных как горящие угли пар-оольцев эти люди
выглядели посланниками Света: легкие, статные, златовласые, с
тонкими аристократическими чертами. Я никогда не покидала родного
края, но сразу поняла: это могли быть только жители Империи.