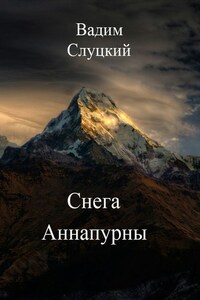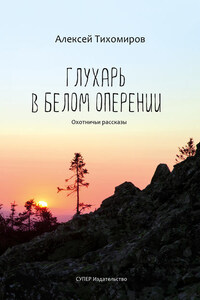Капли грузно падали на подоконник, увязая в грязном, напитавшемся талой водой снеге. Чёрные остовы деревьев за окном облепили вороны. Пронзительными криками гнали они зиму прочь, но та едва ли намеревалась отступать. В предсмертной агонии тлела она копотью на сыром асфальте, мокрой безжизненностью на холодной истощённой земле и свалявшимися комьями по закоулкам. Обшарпанный унылый город погряз в смоге и тумане, и лишь редкие одинокие путники бессмысленно торопили по улицам, ёжась от осточертевшей мороси. Да ещё суетливые машины где-то вдалеке огрызались раздражёнными сигналами…
«Какая дыра! – в пасмурности с низким титаново-серым небом могло посоревноваться разве что моё настроение. – Чьей злою волей занесло меня в это проклятое место? Или более, быть может, нет нигде отрады в потерянном бесцветном мире?»
Поразмыслив, я записала последнюю строчку. Она мне понравилась. Я погрызла кончик карандаша, силясь улучить подходящую рифму, уловить ритм вибраций души. Потом, перебирая слова, опять отчаянно уставилась в окно. Когда, наконец, фразы вальсом понеслись в голове, меня неожиданно окликнул исполненный язвительной желчи голос учительницы.
Я даже толком не расслышала, что она сказала. Да и стоило ли? Наверняка очередную банальную грубость, поскольку по классу прокатилась волна безрадостного злобного смеха. Ей было невдомёк, что приземистые шаблонные замечания, коими она имела обыкновение привлекать к себе внимание, настолько набили оскомину, что следовало бы задуматься о выборе профессии. Преподавание, а тем более литературы, вряд ли могло оказаться по силам столь ординарно мыслящей личности, если по отношению к ней вообще допустимо было употреблять благородное слово «личность».
– Я, кажется, к тебе обращаюсь!
– Кажется – креститься надо, – пробурчала я под нос в тон ненавистнице приевшимся штампом. Кто-то, не сдержавшись, сдавлено прыснул. К сожалению, большинство сверстников, если не все, были в той же мере непреодолимо глупы и бесполезны. И я, увы, во многом не отличалась от них…
– Ты что-то сказала, милочка? – убила бы её за эту «милочку»!
Тем не менее, требовалось встать. Я бросила печальный взгляд в окно. Безумный танец поэзии остался далеко позади, в неукротимом беге умчался за туманный край горизонта. В голове стало пусто и гулко. Я потупила взор, беззастенчиво рассматривая собственные пальцы.
– Напомни-ка, что я только что сказала.
Я в надежде осмотрелась по сторонам, но никто и не подумал прийти на выручку. Шакалы почуяли потеху и теперь в ожидании замерли. Мыслимо ли было ожидать иного?
– Возможно, ты всё знаешь и тебе неинтересно?
«Удивительная прозорливость!»
– Почему молчишь, Корош? Неужто язык отнялся?
– Нет.
– В таком случае я тебя внимательно слушаю!
Я немотствовала, изучая надписи на парте, узор на линолеуме, даже в коей-то веки ненароком заглянула в учебник. А что мне, собственно, оставалось делать? Воцарилось гробовое молчание – так, кажется, принято говорить в подобных случаях. Что же, явись оно и впрямь гробовым, я не склонна была бы возражать, да вот только эти назойливые взгляды и смешки…
«Придурки!»
Тишина невыносимо и опасно затягивалась. Обычно такие ситуации, уж коли имели место, влекли за собой куда более динамичную развязку: положительную или отрицательную – в зависимости от настроения педагога. Сегодня же, надо полагать, расположение духа у неё было просто отвратительным… как, впрочем, и у меня.
Я нервно помялась с ноги на ногу и подняла глаза, вспыхнувшие дерзким огнём:
– Можно выйти?
Класс обрушился смехом, стоило ли сомневаться? Я знала, что это прозвучит глупо, но слишком низко было и дальше краснеть под выжидающими, алчущими зрелища взорами юного шакалья. Мне стало противно до омерзения, и потому, подхватив рюкзак, я под всеобщее улюлюканье стремительно направилась к выходу. Кажется, учительница кинула вслед что-то гневное, но это более не имело ровным счётом никакого значения.