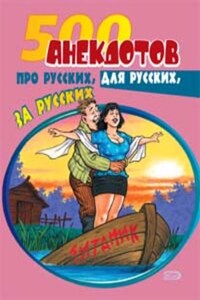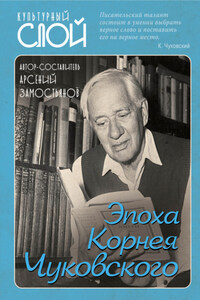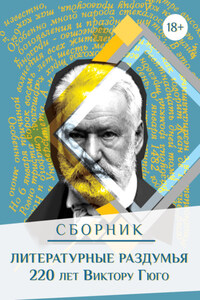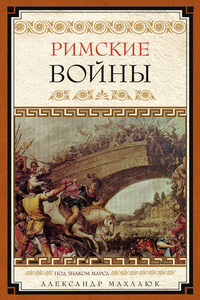Александра Ишимова
Божья верба
Тихие вешние сумерки… ещё на закате небо светлеет, но на улицах темно. Медленно движутся огоньки горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всенощной [1]. Зелёный огонёк движется ниже других… Это у Тани в руках, защищённая зелёной бумагой, свечка теплится.
Вот и домик с палисадником… Слава богу, добрались благополучно. «Не погасла, не погасла у меня! – радостно шепчет Таня. – Как я рада!..»
– Давай, Танечка, мы от твоей свечки лампадку зажжём, – предлагает няня. – А вербу я у тебя над постелью прибью… До будущей доживёт… Она у тебя какая нарядная – и брусничка, и цветы на ней!..
– А почему, няня, ты вербу Божьим деревом назвала?..
– Христова печальница она, – оттого и почёт ей такой, что в церкви Божией с ней стоят… Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает – своих ягняток на свет Божий выпускает…
– Расскажи, няня, про Божье дерево, – просит Таня.
– Да что, матушка моя, – начинает няня, – так у нас на деревне сказывают… что как распяли Христа на кресте, – пошёл трус [2] по земле, потемнело небо, гром ударил, вся трава к земле приникла; а кипарис весь тёмный-растёмный стал; ива на берегу к самой воде ветви опустила, будто плачет стоит… А верба и не вынесла скорби – к земле склонилась и увяла…
БУДЬ ЖЕ ТЫ ВЕСТНИЦЕЙ МОЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ.
ЗАЦВЕТАЙ РАНЬШЕ ВСЕХ НА ЗЕМЛЕ…
Три дня, три ночи прошли – воскрес Господь-Батюшка наш Милосердный. И шёл Он тем путём, смотрит – кипарис от горя потемнел, ива – плачет стоит. Одна осина прежняя осталась; завидела Его, задрожала всеми листочками, да с той поры так и дрожит, и зовут её в народе осиной горькою… А увидал Христос, что верба завяла и иссохла вся, – поднял Он её, Милостивец, – зацвела верба краше прежнего.
«Ну, – говорит Господь, – за твою любовь великую и скорбь – будь же ты вестницей Моего Воскресения. Зацветай раньше всех на земле, ещё листвой не одеваючись!»
Так и стало, матушка моя, – и почёт ей, вербе, поныне на свете больше других дерев!..
– Какая она славная, вербочка!.. – тихо шепчет Таня. Потом задумчиво снимает вербу со стены и говорит: Няня… я её поставлю в воду… Пусть она оживёт… А потом мы её пересадим в палисадник, хорошо?
Антон Чехов
На Страстной неделе
– Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет.
Мать суёт мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан… Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.
Проезжает извозчик [3]. Он чмокает, дёргает вожжи и не видит, что на задке его пролётки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.
«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? – думаю я. – Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай».