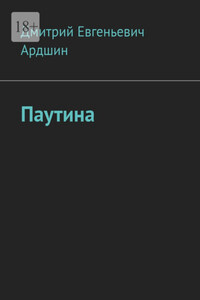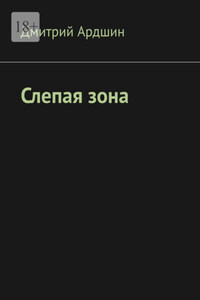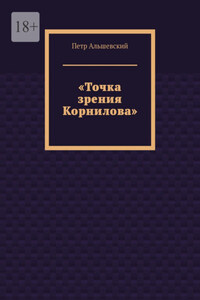Это было его тайным летним увлечением. Воображение услужливо придавало действиям девятилетнего Евгения Дерягина облик преступления. Дыхание перехватывало, и что-то изнутри щекотало низ живота.
Прихлопнуть, раздавить, – тоска, да и только. Надо длить, растягивать их боль. Лишь тогда войдешь в раж. Только тогда окатит теплая, сладкая волна, и в глазах потемнеет. На кухне, где трепыхались выцветшие занавески, и бормотало сбрендившее от новостей радио, Дерягин медленно, как можно медленней отрывал им конечности. Он аккуратно вешал жертвы на виселицы, сделанные из спичек и проволоки, а после подпаливал. Черные тельца подергивались, корчились в огне агонии, и, казалось, безмолвно молили о пощаде и звали на помощь. А их соплеменники, будто пытаясь спасти несчастных, кружились над юным палачом и жалили его в шею, в руку, в щеку. От внезапного приступа страха Дерягин передергивался, соскакивал с табуретки и махал руками.
Но больше всего Евгений боялся, что ночью, когда он заснет, из-под кровати, шурша лапами, выползет мохнатый король мух и, холодно поблескивая сетчатыми, размером с баскетбольные мячи глазами, сделает с Дерягиным все то, что Евгений проделывал на кухне с его назойливыми поданными.
Гостиничный номер был крохотный. Выбравшись из-под кровати, Дерягин уткнулся лицом в коричневый ботинок Светланы, которая сидела в драном с деревянными подлокотниками кресле, закинув ногу на ногу. Евгений потерся щекой о ботинок и, шутливо зарычав, впился в него зубами. Пташкина, поморщившись, отдернула ногу.
– Упс, – вытянув губы, произнес Евгений, поднялся и стал неторопливо отряхивать от пыли серый мятый костюм. – Еще скажи двадцать шесть (чихнул) лет, а веду себя, как маленький, – он напряженно усмехнулся и опять громко чихнул.
Когда они только вошли в номер, и Евгений, с глухим хлопком откупорив игристое полусладкое, наклонил бутылку над пластиковым стаканчиком, то Светлана, дергая себя за мочку уха, оглушила Дерягина тихими словами. И советское шампанское, переливаясь через край стаканчика, шипело и пенилось озерцом на столе, и струйками стекало на пол. Больше Светлана ничего не сказала. Она лишь буравила Дерягина глазами.
С их последней встречи прошло каких-то две недели, а Светлана так переменилась, – не узнать. Черная длинная, до щиколоток юбка и такой же траурный свитер с глухим воротником, пожухлые соломенные волосы, болезненно-бледное лицо с кумачовыми губами, – все это было незнакомым, чужим, странным.
Протягивая Светлане сережку – золотой листочек, сорвавшейся с мочки уха и залетевший под кровать – Дерягин сухо посоветовал:
– Сдай в ломбард. Деньги тебе понадобятся.
– Какой ты добрый, – она усмехнулась.
– Это только твоя проблема, – вспыхнув и опустив глаза, поспешно пробормотал он.
– Только моя… – глухо отозвалась она, съежившись в кресле.
– Да. Только твоя, – нахмурившись, раздраженно настаивал он.
Взвизгнув кошкой, Светлана схватила вазу с тремя розами… Голова Дерягина разлетелась на зеленые осколки. В одном из них сверкнуло: «Зачем я это брякнул?»
***
Реактивно завывая, кто-то на скорую руку склеил голову. Подташнивало, мутило. Поскрипывала полуоткрытая дверь. За ней, в коридоре, надрывался пылесос. На полу номера, у пустого кресла, в лужице крови лежала красная роза. Ее бутон очертаниями напоминал лоно Светланы. Дерягина повело. Он тихо простонал, и его вывернуло на розу. Прополоскав рот шампанским, Евгений приложил мокрое, отдающее хлоркой полотенце к ноющему, раскаленному виску.
За окном желтела, рыжела аллея, – то ли маскарад, то ли поминки. Дождь наискось, торопливо штриховал темные, сгорбленные силуэты прохожих. Ледяные, белые гранулы скакали по подоконнику.