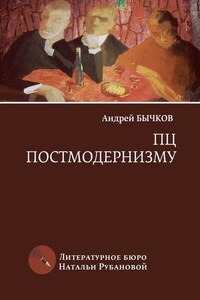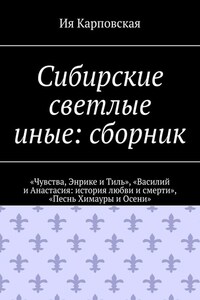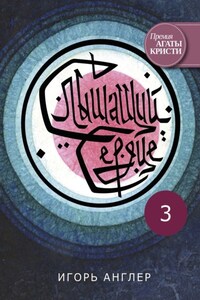Сознавая, что это порок, каждый раз, где бы он ни был, когда его бог внезапно вселялся в него, каждый раз он клялся себе, что это последний, последний, и грозился убить своего бога, предать его раз навсегда, и снова, и снова, отданный на растерзание, извергал Слово, будь то салфетка в кафе или дверь в общественном туалете, или единый билет, носовой платок, кирпичная стена, мусорный бак, на котором можно чиркать гвоздем, как на асфальте – мелом. Что это было? Что за осколки невидимой поверхности, к которой он прикоснуться пытался в своей странной молитве? То, чего быть не должно. Сознавая, что это порок… И, как каждый порок, рано или поздно это должно было его разрушить, даруя лишь миг наслаждения, ввергая потом в бездну отчаяния.
Он понял с утра, что будет тот самый день, начнется, как и другие, в которые он спотыкался, как, например, тогда (может быть, это было вчера, может быть, год или два назад), а закончится… Тогда он сидел в кафе, разжевывая кольцо коржика, кроша его незапломбированными зубами, запивая суррогатным кофе, стол пах пельменями, он жевал и смотрел на какого-то типа в мастеровитой кепке, который стоял в очереди со своей «теткой», придерживая ее за голубую рыхлую руку повыше локтя большим и перстневым пальцами, средним и указательным постукивая в такт музыке, тра-ля-ля пела певица. Он жевал и смотрел, и вдруг почувствовал снова, как и тогда, что дело не в этом типе с мастеровитой кепкой (тот уже ее снял и, держа под мышкой, приглаживал редкие длинные волоски аккуратно, ребром ладони), и не в его спутнице, и не в душном кафе, где вентилятор крутится вместе с мухами, мертво сидящими на остро отточенных лопастях, не в этом во всем дело, и, может, ничего этого нет, а есть теперь только бог, его бог, который вновь приближается сзади неслышно, трогает позвоночник, начинает играть и казнить, шепчет: ну, же, вот салфетки в стакане, что тебе стоит, возьми, согреши, брось и уйди, я подскажу тебе, что написать в этот раз. Тогда снова (может быть, это было вчера, а, может быть, и неделю назад) это словно блеснуло в крови, поднялось упругим жгутом и ударило в мозг, ослепляя. И он написал на салфетке:
«Но если их убил я, я убил отца своего и мать, значит, я сделал это вместо кого-то другого, кто отца своего и мать теперь никогда уже не убьет».
Скомкал и бросил под стол, поднялся и вышел, не глядя на этого типа с окровавленным червяком слипшихся волосинок, с кепкой в авоське, с вздрюченным, словно выдавленным из тюбика, лицом, не глядя на его обвислую отечную спутницу с безжизненным молоком глаз и серой сметаной подбородка, с голубовато-черными ляжками повыше локтей. Вышел, чувствуя в горле поднимающиеся комки непроваренных пельменей и черный (без молока) суррогат раскаяния. Зачем он сделал это? Эдипов комплекс? Чушь собачья. Где же добро? И тогда, повинуясь неведомому ветру инстинкта, он бросился в метро и поехал к матери в Бирюлево, он был так ласков и внимателен к ней в тот вечер, что она спросила его, не заболел ли он, и он ответил, нет, просто он понял, что очень любит ее. Тогда. А в это утро солнце, поднявшись из-за тополей, кажется еще не проснувшимся ребенком, нет еще его жаркого беспощадного крика, плавящего асфальт, в это утро, когда он еще только проснулся, его бес снова здесь, он чувствует его пребывание во всем, в стакане воды на столе, в блеске тополиной листвы за окном, в скрипящей детской коляске и в невозмутимости автомобиля, который просто стоит и не едет. Что случится сегодня и как настигнет его его бес? И можно ли с ним бороться? Не брать с собой ручку? Но ведь