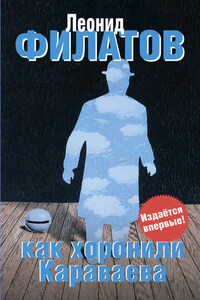– Марк, почему вы остановились?
Молчу. Я идол минутный. Величественный, как перед грозою.
– Марк, продолжайте скорее! Это же самый финал.
Пора. Продолжаю.
«Сперва как в дреме: будто грядет грандиозный трамвай. Так дрожит тротуар. У прохожих драматически трясутся головы и стучат зубы.
Но нет никакого трамвая. Дрожь превращается в гулкие колебания.
– Вон там! – вскрикивает мальчик, падая со скейтборда.
Все поворачиваются по вектору его вопля.
На закат.
Теперь это видит каждая тварь.
Песочная пирамида Московского государственного университета дряхлеет. Четыре его бастиона скрываются в бурой пыли. С самой вершины главного здания, со шпиля, с визгом срывается звезда в обрамлении гордых листьев лавра.
Один из прохожих крестится, шепчет: «Мать твою!» и поспешно достает телефон, чтобы снимать бесценный крах.
Вкусный кусок Воробьевых гор вместе с трамплином, японскими туристами и осколками мраморной балюстрады двигается вниз, к Москва-реке.
– Черт возьми! – восклицает профессор уже стертой истории. – Моя кафедра!
В этот самый момент под облысевшими яблонями в искривленном от ужаса университетском саду лежат семь студентов, среди которых любимица профессора, Румина. На мгновенье наступает загадочное затишье. Студенты медленно поднимаются, словно ожившие помпейские статуи.
– Что это было? – кашляя, спрашивает Румина.
Ответ приходит сверху, с фасада. Всех семерых тут же придавливает каменным исполином с циркулем в божественных руках.
Профессор Бурново стоит на трамвайной остановке, полчаса назад он закончил семинар по прогнозированию исторических процессов. Румина должна была прийти к нему сегодня вечером.
– Землетрясение! Землетрясение! – люди хотят скрыться, исчезнуть из внезапного ада, но не в силах двигаться.
Большинство из них при этом уже держат в руках телефоны скорби, направленные глазками туда, где здание университета оседает, как ветхозаветный торт.
– Это не землетрясение, – профессор шатается на твидовых ногах. – Это мой просчет. Я не успел… – Он легко, как призрак, улыбается. – Ведь это и есть та самая Пирамида, о которой мне писали эти сволочи из «Союза Б.». Так просто!
Больше он ничего не произнес, хотя рот его открыт и забивается пылью. Видимо, теперь безумный профессор хохочет, но за тектоническим гулом его уже не слышно.
Вертолеты МЧС не смеют приблизиться к контуру катастрофы, и пилоты лишь по-детски матерятся, что слышно сквозь густые помехи.
Над городом поднимается магический гриб пыли, его освещает закатное солнце и, будьте уверены, – такого зрелища не досталось даже пошляку Наполеону».
– Энде. Конец первой серии, – Я улыбаюсь и подбрасываю стопку листов вверх, к противопожарным датчикам. Жест я продумал заранее, отрепетировал под присмотром сверкающих глаз моего Лягарпа. Листы с мучительными вздохами разлетаются по кабинету. Этюд удается. Один лист любезно ложится точно на голову Эвглене Галимовне. Она снимает его, поправляет черную шаль и протягивает листок мне:
– Марк, дорогой, вы бы не разбрасывались!
Кроме нее, главного редактора компании МРТВ-кино, на тугих креслах расположены в римских позах мой вечный продюсер Йорген и еще двое молчаливых граждан, имен которых, пожалуй, даже не буду приводить: вряд ли они еще мне понадобятся. Один серый, другой серый. Два унылых гуся. Да и не помню я их имен. Я умею обходиться вообще без имен. Имя – прах, который я попираю своими кедами. Я получил монаршее право называть людей так, как мне выгодно. Как требует того мой тайный пакостник-драматург. Пусть будут пока обозначены, как два ШШ, – на каждого чёрта по четыре черты. Чем не щедрость?
Йорген убирает во внутренний карман вельветового пиджака курительную трубку: он держал ее, остывшую, в зубах все то время, что я артистично декламировал синопсис.