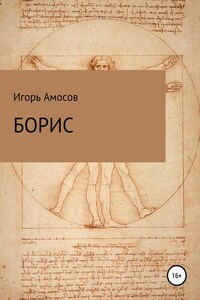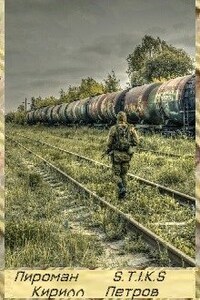Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. И, как обычно, не хочется вылезать из теплой постели, умываться на дворе ледяной водой из подвесного рукомойника, ойкая и подпрыгивая от холода. Но бабушка на этот раз неумолима – даже не напоив чаем, берет меня за руку и ведет, сердитого и хмурого, за собой в поселок.
Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный, анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками.
Свежо и морозно. Трава, сверкая легкой изморозью, поскрипывает под ногами. И вот уже мое плохое настроение вместе с остатками сна растворяется в хрустком веселом воздухе.
– Утренник, – говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. А мне смешно, потому что я знаю: утренник – это праздник в детском саду, с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши.
– Утренник, – повторяет бабушка. Мое маленькое сердце еще не умеет восхищаться и даже не знает, что это такое, оно, может быть, в первый раз сладко сжимается от непонятного, необъяснимого, удивительного ощущения Красоты.
Тот утренник остался во мне навсегда. Больше всего на свете я люблю эти часы, когда солнце еще не растопило серебряных нитей на траве и кустах, тонкой пороши на железных крышах домов, когда воздух пахнет свежей землей и яблоками – анисом, тем самым анисом, который я так любил собирать под старой яблоней в саду за домом.
И мне все кажется, что и сегодня в каком-то другом измерении, вне времени существуют и алые снегириные перья зари на густой синеве неба, и неподвижные большие деревья, и старуха с мальчиком, идущие по полю… И тишина стоит там такая, какой не бывает на свете. Из всех звуков только хруст травы под ногами – ломкой, точно стеклянной, прихваченной ночным молодым морозцем…
Мы идем в церковь на утреннюю службу. Бабушка ведет меня к причастию…
Осенью, когда по деревне полетели первые легкие паутинки, я заболел. Бабушка сказала, что перекупался в речке. Но это не так. Потому что перекупаться вообще нельзя, недокупаться – это я еще понимаю, а перекупаться – нет.
Подхватил я воспаление легких. Никому такого не пожелаю: что хорошего валяться две недели в кровати? Да еще с высокой температурой! А когда пытаешься встать, комната так и плывет – стол на потолок уходит, божница с иконами – под окно. И ноги слабые, не держат. Так что не успеешь и шагу сделать, как опять в кровати оказываешься.
Помню сквозь жар, как приходил фельдшер из поселка, слушал меня трубкой и качал головой. На голове у него волос мало, и легкие они, словно пух, – так и хочется подуть на них, как на одуванчик. Я и собираюсь подуть, но бабушка грозит мне пальцем. Имя у фельдшера чудное – Капитон, Капитон Евдокимович.
– Дело нешуточное, – говорит фельдшер бабушке. – Да, нешуточное… Гм… Надо бы в больницу его, – и кивает на меня. – В район.
Бабушка сокрушенно охает.
– Да как же, батюшка, в район-то? Как один там мальчонка-то будет?
– Не хочу в больницу! – кричу я и вдруг, сразу ослабев, засыпаю. Что было дальше, не помню.
В больницу меня бабушка не повезла, лечила сама как умела. Хуже всего ночью. Я брежу, и мне часто снится один и тот же неприятный сон. Будто смотрю я от реки на тропинку, которая сбегает с горы, а по той тропинке, вернее, наперерез, голый человек толкает перед собой огромный короб, в котором горит огонь. Короб медленно движется, а языки пламени так и рвутся из него, даже меня, хоть я и далеко, обжигают.