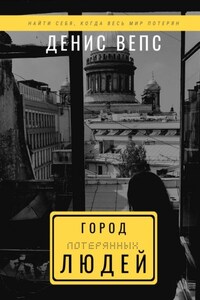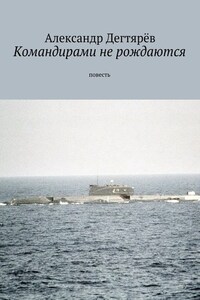Всем тем, что проходят мимо, пряча взгляд.
Холод. Собачий холод. Дурацкое выражение, придуманное двуногими, как нельзя точно описывающее самые лютые морозы, которые не в состоянии выдержать даже представители нашего рода. Впрочем, собачий холод – дело относительное. Вот взять эту страшилищу Эльзу с Карла-Лютера: проклятая чи хуа хуа может преспокойно валяться в самую дикую стужу на бетонном тротуаре, хотя вместо этого греется денно и нощно у камина, да ещё и под цветастым пледиком, выписанным специально для неё аж из самой Индии. Я – другое дело. Дворнягам вроде меня с жирными сосульками скатавшихся волос вместо пышной шубы приходится туго. Особенно в такие ночи, как та.
Трясясь так, что лязг моих челюстей был слышен за пару кварталов вокруг, я пробирался тенями, прячась от патрулировавшей улицы машины живодёров. Старушка Судьба, словно в насмешку послала этих лоботрясов, хуже репья прицепившихся к моему хвосту, как будто других беспризорных дворняг в нашем городе не было вовсе. Так или иначе, дрожа от холода и страха, я добрался до заброшенной стройки. Меж торчащих рёбер остова здания, которому, похоже, так и не суждено было обрасти мясом стен, гулял ветер. Ледяные потоки, скользя между ржавеющими штырями, задевали углы, отчего железные изваяния противно и протяжно выли, словно выбравшиеся из могил утопленники. Ни одному нормальному человеку, а уж тем более псу, не пришло бы в голову коротать такую ночь посреди продуваемого пустыря. Но эти-то нормальные и не знали того, что знал я.
Рывком преодолев выжженную холодом пустошь, я нырнул в неприметный тёмный провал лестницы, ведущей в подвал. Кое-что эти горе-строители всё же успели закончить. Там-то я и замер.
Едва мои лапы коснулись последних ступеней, как почти насмерть отмороженный нос учуял запах чужака. Он лежал на моём месте – прямо над люком с трубой, вечно источающей горячую воду. На этот раз, правда, я не услышал запаха клубящегося пара, сладко манящего покоем и теплом – похоже, двуногие всё же устранили течь.
Чужак не шевелился, но был жив. Я слышал, как ворох газет и картонок, которыми он попытался накрыться, тихо шуршал от его мелкой дрожи. Любопытство взяло верх и я, мягко ступая по продрогшему бетонному полу, подкрался ближе.
Около кучи макулатуры лежали обломки досок, клочки бумаги и ещё какие-то жутко вонючие лоскуты. Похоже, чужак пытался разжечь костёр, но окоченевшие пальцы подвели двуногого и тот уполз в угол. Умирать.
Груда газет пошевелилась. Чужак открыл глаза.
Он долго пристально всматривался во тьму, силясь различить своим слабым человеческим зрением того, кто наблюдал за ним. Меня. Затем он пошевелился снова – приподнял ворох макулатуры. Меня обдало вонью помойки, протухшей рыбы и тоски. Тоски такой, что захотелось тут же плюхнуться задом на мёрзлый бетон и, запрокинув пасть, завыть на затянутую плитой и свинцовыми тучами луну.
– Эй, Пёс… – прохрипел чужак, – Залезай. Вдвоём теплее…
Не знаю, почему, но в тот момент я растерял всю осторожность, набитую годами жизни брошенной дворняги. В конце концов двуногому ничего не стоило вскрыть глотку неосторожного пса, чтобы сожрать его на ужин. Я несколько раз видел такой исход. Всё—таки двуногие – самый жестокий народ, от них можно ожидать чего угодно. Но почему-то у меня не возникло даже мысли, что именно это знакомство может для меня плохо кончиться. Возможно оттого, что сил у двуногого едва хватало, чтобы удержать на весу приоткрытое одеяло из газет. Но скорее всего причиной тому был струящийся смрад тоски брошенного пса, так тесно роднивший меня с ним.