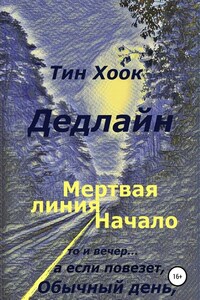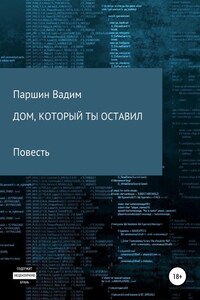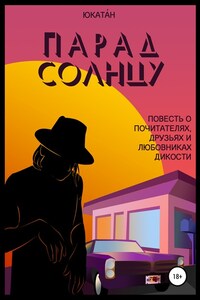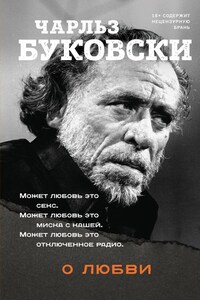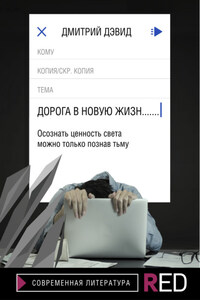Песня 1.
Больше всего что беспокоило Женщину, этим холодным, ярким, весенним утром, это вопли безосновательных старух.
Бегая вокруг молодого тельца, они неустанно изрыгивали проклятия в ее светлую душу, оставляли следы испражнений на могучих стенах сталинского ампира, и неуклюже мочились под деревья старого парка.
Окутав пеленой безысходности и мрака, они радовались новой жертве быта, недостатков и тягот.
Жизнь покидала их червивые и трухлявые тела, но в мерзости своей им не было равных.
И вот, хлебнув сполна, она снова с потухшими глазами шагала на работу, и слабость духа была крепка, и трусость с прежним задором крепчала…
Проникшись духовным безобразием, бродячие коты перегораживали ей дорогу.
Поправляя свои монокли неуклюжими лапами, они трепались о высоком, и ехидно вопрошали:
– А что вы, Женщина, не верите в возможности социалистического транспорта? Вагоны только наполовину пусты.
И отступали.
С визгом, как тени, мерзкие коты уползали по улице, легко и бессмысленно озирая все еще гадящих под деревьями бабок.
С тугим лицом шла героиня этого времени, этого дня.
С великой потугой давался каждый шаг в никуда.
Мысли спутались в клубок замогильных червей, ноги вязались словно змеи.
Заглядывали прохожие ей в лицо.
Прямо в глаза таращились мерзкие двуногие личины.
Женщина неминуемо смотрела тоже.
О, тщета!
Разве что-то видно в них?!
Разве есть в этих угасших глазах то, чего нет в помойной яме?
В могиле сырой, в промозглом склепе запоздалых огней того света близкого.
Раньше Женщина ходила по улице и заглядывала в лица случайных прохожих, неминуемо неслучайно проходящих.
Она видела их, они пылали страстью, жизнью и эмоциями.
Теперь глаза опустели и глазницы впали тьмой внутрь несовершенно переходящие.
И люди словно тени, без намека на какую либо, хоть холодную живость и бодрость духа, слава нам.
В квартирах многоэтажек, в беспросветной темени существования, сгнило все, заменилось бессмысленным.
И, Женщина пыталась с ними:
– И я с вами! – завопила она, раскинув в стороны запоздалые руки, и запрокинув голову к праздничному свинцовому небу.
– Я с вами!
Вороны кружились, и сокрушали округу вороньим шепотом.
– Ты с нами, ты с нами…
Окрыленные безумием и жадностью, и проклятием, не унимались они.
Шептали и кружили, путали и веяли, блестя глянцем зеленоватым, и без веры в своих вороньих сердцах, и крыльях.
– Оставь все это, будет больно…
– Забудь, немыслимо и тяжко будет…
– Не высовывайся, скотина. – не унимались змееголовые птицы.
Остроглазые рептилии, без возможности всякой, без доводов надуманных, да по нескольку раз, да в присядку и весело.
– Я с вами, я с вами – твердила она.
– С нами, с нами, летим с нами, – твердили они.
В бреду летя по около-парковой дороге, Женщина радовалась принятию.
Свет тух неукротимо, алчность и кредиты, да здравствуют!
Тяжелый серый воздух густо наполнял улицу из открытых окон прижизненных склепов.
Пестрые лучи тьмы мерцали из открытых дверей подвалов, что у входа.
По ним можно пройти сквозь…
Мерцали и звучали словно старые ржавые радиаторы, непременно вышедшего духа былого сладострастного…
Струились и обрывались в нигде, и в никогда, но по сути всегда.
Сочиняли верлибры дерьму.
А вокруг мочившихся бабок, бомжи дрались в добавок, и силы их были равны.
И перегар мощный стоял в округе, дух человеческий ваш.
Добро со злом сошлись в последней мощнейшей битве.
Великий конец, фатум!
Значит, зарядил один бомж второму кулаком прямо в эрогенную зону.
Прямо в нутро проник, яростным, запрещенным приемом.
Да с такой силой, что бедняга с душераздирающим воплем упал с грохотом на истрескавшийся со временем асфальт, и обмарался калом.
И треск рокотом раскатился по парку и близким улицам, и мерзкие старухи не только мочились.