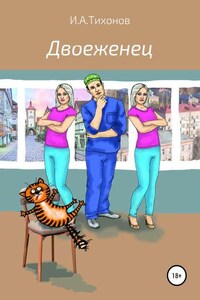К бабушке ехали долго. На поезде через три границы: из Германии, где служил отец, через Польшу на Южный Урал – более трёх суток. Мелькали картинки за окном: красная черепица Вюнсдорфа, плоские крыши блочных домов Варшавы. Перед рекой Буг на границе поезд притормозил и из вагонов на ходу спрыгнули щегольские польские пограничники в конфедератках. Быстро проскочив узкую полоску реки, на своей земле, высунувшись в окна, наши кричали «ура!». Война давно окончилась, шли хрущёвские шестидесятые.
В Бресте меняли колёса, и меня этот момент интересовал чрезвычайно. Из окна купе я зорко следил за всей процедурой – вагон плавно, почти незаметно поднимала гидравлика, с грохотом укатывались европейские – узкие – вагонные тележки и с таким же тяжёлым шумом закатывались наши – широкие.
Потом ехали весело до самой Волги – почти на всех остановках продавали еду: жареных кур, солёные огурцы, вареную картошку и пирожки. Пирожков мама не покупала – неизвестно, чего туда нашинковали. После Волги началось царство вяленой рыбы – предлагали воблу вязанками, а лещей – поштучно, и всё недорого. Но когда куры и картошка из оконной торговли исчезли – о, удача! – нас с сестрой повели в вагон-ресторан. Поковыряв для вида ленинградский рассольник и жаркое с оранжевой подливкой, можно было неторопливо попивать вкуснейший лимонад «Буратино» – в Германии такого не было.
Всю дорогу по внутренней трансляции гоняли песни советской эстрады. К концу путешествия многие я запомнил наизусть. Особенно поразила моё воображение популярная тогда песня «Бухенвальдский набат». Когда все выходили из купе, я ложился на верхнюю полку для громкости звука и страшным голосом орал: «Люди мира на минуту встаньте!!!». Исполнять на публике это было нельзя – взрослые хмыкали, а я обижался – пел-то с большим чувством.
Приволжские степи незаметно переходили в приуральские. На исходе третьего дня, постояв в Оренбурге, поезд в сумерках проскочил Меновой Двор, где проходит «граница» Европы с Азией, и разогнался под горку к разъезду, после которого до нашей станции уже рукой подать.
К этому моменту все вещи, и мы одетые, уже стояли в коридоре. В тамбуре проводница щёлкала круглым железнодорожным ключом. Наша остановка – две минуты. С протяжным металлическим скрипом и лязгом поезд затормозил. Проводница распахнула дверь и откинула металлическую лесенку. В лицо ударила жара с запахом полыни и шпал. Где-то в темноте, выкрикивая маму, уже бежал по насыпи к вагону дед, и нас, как кукол, по очереди вбрасывали в его большие надёжные руки. Поезд, продёрнув через своё тело волну тяжёлого металлического звука, тронулся дальше уже без нас.
Пока шли в темноте, ничего не узнавалось. Дом в окружении штабелей шпал вырос из сумерек как крепость.
Бабушка в слезах на пороге целовала и перецеловывала нас – как космонавтов или бежавших из плена партизан. Мы ответно тыкались в её лицо, вдыхая родной запах – молока и солнца.
Взрослые, накричавшись, вскоре перешли на шёпот – детей уложили на полу спать. Ещё несколько минут борьбы за подушки и – счастливый полёт в никуда. Приехали!
Острые солнечные лучи, пробив ставни, мешают досмотреть что-то чрезвычайно важное и приятное, но уже слышны голоса из кухни и куриное ворчание с улицы. Теперь понятно – мы у бабушки и можно, не одеваясь, бежать во двор босиком.
Всё сразу рассмотреть не удаётся, зовут завтракать. На столе огромная яичница, любимые шанежки и кружка ненавистных сливок. По шуму ташкентского поезда, который проходит в пять утра, бабушка встала, подоила корову и выгнала её в стадо. Прилегла до «соль-илецкого», с ним встала опять и наготовила всю эту утрешнюю снедь.
После завтрака мы, причёсанные и чисто одетые, с мамой обходим всю родню – четыре или пять семей и ещё соседи… Ходьбы на целый день.