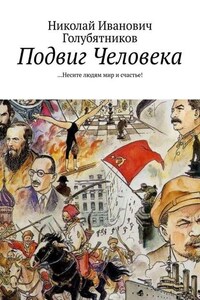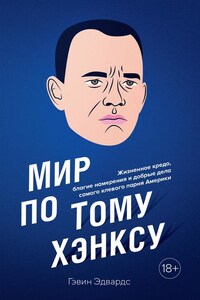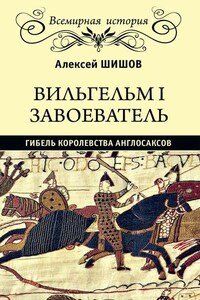Начало восприятия внешнего мира связано у меня с молочной лапшой.
Зачерпнув деревянной ложкой лапшу так, что с её краев свисают лапшинки, как махор пухового платка бабушки Наташи, мама уговаривает:
– Ешь, сыночек, лапшичка сладенькая, беленькая.
А мне кажется, что это не лапша, а огромный паук, растопыривший лапы. Мне страшно и противно есть эго отвратительное чудовище.
Я дрыгаю ногами и изо всех сил отвожу мамину руку, неистово крича:
– Не хочу! Не буду! Она горькая!
Я был болен. Мне было жарко и душно в кроватке. Когда я открывал глаза, то видел на потолке ползающих чудовищ, а когда закрывал, то на меня бросались хвостатые и рогатые черти. Повернувшись на бок, я просил:
– Мама, погладь головку.
От прикосновения маминой руки черти трусливо убегали, мне становилось смешно, и я засыпал.
Один раз сквозь сон я услышал приглушенные голоса:
– Уснул. Жар прекратился. Три дня бредил, – говорит мама.
– Теперь пойдет на поправку. Иди отдохни. Проснется, а я ему – подарки, – глухо басит папа, усаживаясь на стул около моей кроватки.
Весть о подарках окончательно прогоняет сон. Я уже не сплю, только вот глаза не мoгy открыть. Разжимаю, разжимаю, а они не открываются. Тогда я прикладываю к ним кулаки и начинаю тереть. Это помогает, и я говорю:
– Папа, покажи подарки!
– Ах ты, барсучонок! Спрятался в нору, а сам все слышит! – бросается ко мне папа и выхватывает из кроватки. Он так крепко сжимает меня в объятиях, что, кажется, дыхание останавливается.
Охватив загорелую шею отца руками и прижимаясь щекой к колючей бороде, восхищенно говорю:
– Мой папа… мой папа.
Когда через некоторое время вернулась мама, то она застала нас под большой кроватью. Папа держал зайчонка, а я гладил его по пушистой спинке, трогал чудесные уши. Нам было так весело! Трогать ежика папа не разрешил.
– Ежик колючий. Не прикасайся к нему. Пальчик больно наколешь, – наставляет папа, пятясь из-под кровати и таща меня за собой.
Папа часто приносил с охоты лесных жителей. У нас в комнате даже утка с утятами жила. Ежика я кормил молоком. Чем кормил других животных, не помню. Ведь мне был всего один год.
Вскоре папа опять стал собираться в Ростов.
Помогая укладывать дородные вещи в коричневый чемодан, я спросил отца:
– Папа, почему ты опять уезжаешь от нас?
– Такая у меня работа, сынок. Страхование военнослужащих. А они живут в разных местах. Вот и приходится все время ездить, – со вздохом отвечает папа. Мне становится жалко папу, которого грозный генерал заставляет ездить по станциям и «цугать» военных.
Шли годы, а папы все не было.
Один раз, когда мама была особенно грустной, я спросил её:
– Мама, где папа? Он умер?
– Папа жив. Но мы поссорились с ним. Он больше не приедет
к нам.
– Нельзя обижать папу, – строго сказал я. – Он хороший. Он привезет мне маленького кутенка.
Мама громко заплакала и ушла в другую комнату.
Поздним осенним вечером 1917 года в комнату вошел высокий мужчина в черном плаще. Густым басом спросил у мамы:
– Где Коля?
Я от страха забился под стол и не шевелился. Страшно хотелось чихнуть, но я крепился, тер пальцами нос и молчал. Но тут очень ласково позвала мама и представила мужчине. Это был отец. Запомнились длинные усы и печальные голубые глаза на бледном лице. О высоком лбе и густой шевелюре я получил представление позже, по фотокарточке, которую переслала нам его сестра Антонина Моисеевна.